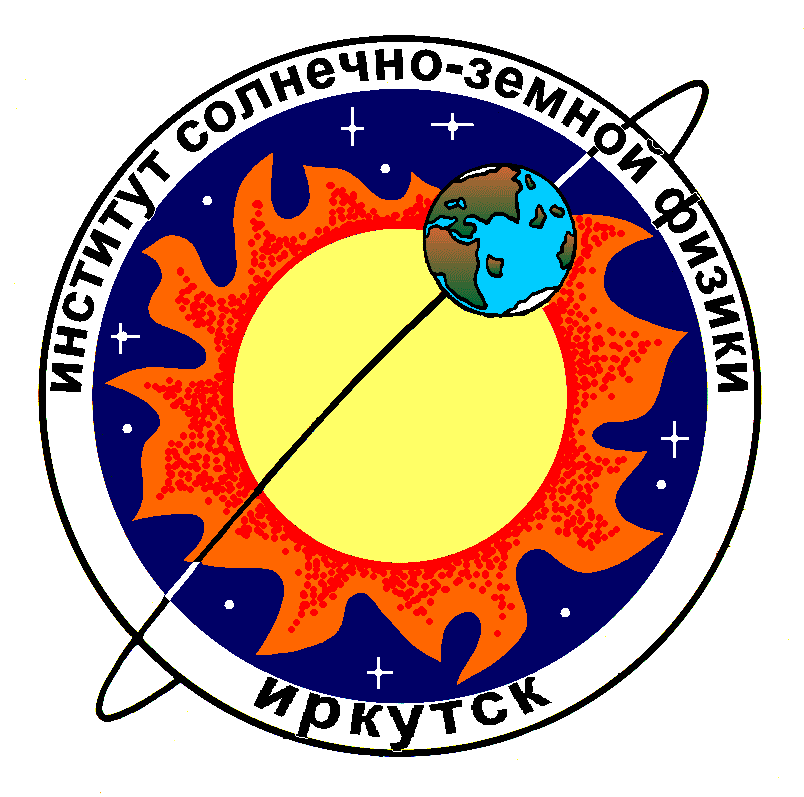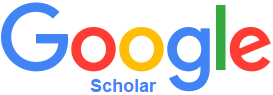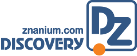from 01.01.2018 until now
Russian Federation
UDC 32
CSCSTI 11.15
Russian Classification of Professions by Education 41.06.01
Russian Library and Bibliographic Classification 660
Russian Trade and Bibliographic Classification 7321
BISAC POL009000 Comparative Politics
The purpose of this work is to empirically test the theoretical assumptions about the parliamentary systems’ better performance in democracy comparing with the presidential ones. Post-communist political regimes are, therefore, an analytically promising category since the results of their political development and institutional choices evince rather different patterns. Moreover, the statistical analysis carried out in this study indicates statistically significant differences in the level of democracy between countries employed different types of institutional design. Russia and Moldova represent deviant cases from the classical structure-driven approaches perspective to the problem of democratization; however, the factor of an institutional choice fits well to the assumptions about perils of presidentialism and favors of parliamentarism. To what extent does the actual political development of these states correspond to these theoretical ideas? In an attempt to deal with this research question, the author sequentially analyzes the arguments about horizontal and vertical accountability. The comparative case study of the political regimes of Moldova and Russia displays the different analytical power of the institutional explanations for democratization. In this regard, it is crucial to consider institutional design not only the cause of political development but also as its result. Therefore, the institutional explanations that ignore the reasons for choosing a particular design will be at best limited.
institutional choice, institutional design, constitutional design, semi-presidentialism, separation of powers, democratization
Различные результаты так называемой «третьей волны демократизации» [22] в посткоммунистических политических режимах вызвали к жизни обширные теоретические дебаты относительно факторов, ответственных за подобную дивергенцию. Почему страны, которые разделяют общее коммунистическое прошлое, спустя несколько десятилетий существенно разнятся по уровню развития демократических институтов и гражданских свобод? Попытка ответить на этот вопрос сделала страны Восточной Европы и постсоветского пространства своеобразной естественной лабораторией политической науки для тестирования различных моделей, объясняющих разницу режимных траекторий. Существующие объяснительные модели принято разделять на две категории: структурные (structure-driven) и процедурные (actor-driven) [7; 9]. В рамках первой группы теорий одной из наиболее часто тестируемых корреляций является зависимость между типом политического режима и уровнем социально-экономического развития (см., например, [27]). Эта связь кажется правдоподобной. Действительно, страны, которые более остальных продвинулись на пути создания институтов демократии (такие как Чехия, Словакия, Словения) в начальной его точке были существенно богаче государств, которые ныне оцениваются как консолидированные авторитаризмы (такие как Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан) (табл. 1).
Тем не менее, на обоих полюсах этого спектра обнаруживаются значимые исключения. Например, Россия в 1991 г. являлась одной из наиболее богатых стран региона (ВВП на душу населения $9,047), однако ее текущий уровень демократии оценивается как слабый. Молдова, напротив, являвшись одной из наиболее бедных ($1,087 в 1995 г.), в международных рейтингах рассматривается как демократия (хоть и с изъянами). Такие аномалии актуализируют процедурные объяснения, одним из которых является выбор
Таблица 1
ВВП на душу населения и уровень развития демократии
в некоторых посткоммунистических государствах
|
Государство |
ВВП на душу населения (долл. США, в постоянных ценах 2010 г.) [33] |
Индекс демократии журнала «Economist» (2018) [32] |
|
Словения |
$14,061 в 1991 |
7.50 (демократии с изъянами) |
|
Чехия |
$12,394 в 1991 |
7.69 (демократии с изъянами) |
|
Словакия |
$7,676 в 1992 |
7.10 (демократии с изъянами) |
|
Туркменистан |
$3,444 в 1991 |
1.72 (авторитарный режим) |
|
Таджикистан |
$1,167 в 1991 |
1.93 (авторитарный режим) |
|
Узбекистан |
$972 в 1991 |
2.01 (авторитарный режим) |
институционального дизайна[i], который эти страны сделали после падения коммунизма. Конституция Молдовы, принятая в 1994 г., установила премьер-президентскую систему, в то время как Россия остановилась на президентско-парламентском дизайне, закрепленном Конституцией 1993 г. Обе системы являются частными случаями полупрезиденциализма. Их сходства заключаются в том, что: 1) предусматриваются прямые выборы президента; 2) президент обладает определенными законодательными полномочиями. Ключевое отличие заключается в ответственности правительства. Если в президентско-парламентской системе правительство ответственно и перед президентом (через угрозу отставки), и перед парламентом (через угрозу вотума недоверия), то в премьер-президентской системе правительство отвечает исключительно перед парламентом. Отдельный вопрос – это отношения президента и парламента. Президентско-парламентские конституции всегда предоставляют президенту возможность распустить легислатуру, в то время как премьер-президентские либо такую возможность закрывают, либо существенно ограничивают [18, с. 31].
Наблюдение, касающееся опыта России и Молдовы, поднимает перспективный исследовательский вопрос – в какой степени институциональный выбор, который сделали эти государства, значим для объяснения различных режимных исходов, даже несмотря на то, что структурные факторы предсказывали обратное.
Вообще, в посткоммунистических государствах зависимость между выбором конституционного дизайна и типом политического режима приобретает характер явно выраженной тенденции: страны с парламентской (включая премьер-президентскую) системой рассматриваются как более демократичные, чем страны с президентской (включая президентско-парламентскую) системой (табл. 2). Статистический анализ подтверждает это наблюдение. Однофакторный дисперсионный анализ с поправкой на множественные сравнения Бонферрони дает уровень значимости, достаточный для отклонения нулевой гипотезы об отсутствии взаимосвязи между переменными (Приложение 1). Тест Тьюки дает возможность увидеть, между какими парами факторной переменной «тип конституционного дизайна» установлены статистически значимые различия (табл. 3). Попарные сравнения позволяют увидеть, что статистически значимые различия наблюдаются между всеми парами уровня фактора «тип конституционного дизайна» за исключением двух: между президентским и президентско-парламентским, а также между премьер-президентским и парламентским. Таким образом, граница между уровнем развития демократии пролегает между двумя укрупненными группами – парламентским (включая премьер-президентский) и президентским (включая президентско-парламентский) конституционными дизайнами.
Таблица 2
Уровень развития демократии и институциональный дизайн
|
Государство |
Настоящий тип конституционного дизайна (ноябрь 2019) |
Индекс демократии журнала «Economist» (2018) [32] |
|
Туркменистан |
президентский |
1.72 |
|
Таджикистан |
президентский |
1.93 |
|
Узбекистан |
президентский |
2.01 |
|
Азербайджан |
президентско-парламентский |
2.65 |
|
Казахстан |
президентский |
2.94 |
|
Россия |
президентско-парламентский |
2.94 |
|
Беларусь |
президентско-парламентский |
3.13 |
|
Армения |
парламентский |
4.79 |
|
Босния и Герцеговина |
парламентский |
4.98 |
|
Кыргызстан |
премьер-президентский |
5.11 |
|
Грузия |
премьер-президентский |
5.5 |
|
Украина |
премьер-президентский |
5.69 |
|
Черногория |
премьер-президентский |
5.74 |
|
Молдавия |
премьер-президентский |
5.85 |
|
Северная Македония |
премьер-президентский |
5.87 |
|
Албания |
парламентский |
5.98 |
|
Румыния |
премьер-президентский |
6.38 |
|
Сербия |
премьер-президентский |
6.41 |
|
Хорватия |
премьер-президентский |
6.57 |
|
Венгрия |
парламентский |
6.63 |
|
Польша |
премьер-президентский |
6.67 |
|
Болгария |
премьер-президентский |
7.03 |
|
Словакия |
премьер-президентский |
7.1 |
|
Латвия |
парламентский |
7.38 |
|
Литва |
премьер-президентский |
7.5 |
|
Словения |
премьер-президентский |
7.5 |
|
Чехия |
премьер-президентский |
7.69 |
|
Эстония |
парламентский |
7.97 |
Почему системы с более сильными парламентами часто рассматриваются исследователями как более склонные к демократии? Стивен Фиш выделяет две основные причины. Во-первых, они стимулируют институционализацию политических партий. В политической системе с обширными полномочиями парламента политические акторы более заинтересованы в инвестировании своих ресурсов в строительство работающих партий, которые могут открыть доступ в парламент. Это в свою очередь предполагает обозначение конкретной политической программы и формирование четких партийных идентификаций в обществе, формирование партийных ячеек на нижних уровнях административно-политической системы и в конечном итоге гораздо более широкие возможности гражданского участия в политической жизни сообщества, т.е. повышение вертикальной подотчетности. Во-вторых, парламентские системы формируют гораздо более существенные сдержки и противовесы для исполнительной власти.
Таблица 3
Тест Тьюки для установления взаимосвязи
между уровнем развития демократии (зависимая переменная)
и типом конституционного дизайна (независимая переменная)
|
Пары переменной «тип конституционного дизайна» |
Разница (уровень развития демократии) |
Нижняя граница довер. интервала |
Верхняя граница довер. интервала |
Уровень статистической значимости (с поправкой Тьюки) |
|
президентский / президентско-парламентский |
0.757 |
-1.08 |
2.59 |
0.671 |
|
парламентский / президентский |
4.14 |
2.59 |
5.69 |
0.000 |
|
премьер-президентский / президентский |
4.29 |
2.94 |
5.64 |
0.000 |
|
парламентский / президентско-парламентский |
3.38 |
1.68 |
5.08 |
0.000 |
|
премьер-президентский / президентско-парламентский |
3.53 |
2.01 |
5.05 |
0.000 |
|
премьер-президентский / парламентский |
0.152 |
-1.01 |
1.31 |
0.983 |
Их институциональные возможности не ограничиваются полномочиями по назначению кабинета министров и возможности выражать правительству вотум недоверия, но часто включают и более тонкие инструменты контроля, такие как возможность требовать отчета правительства по отдельным вопросам или проводить расследования деятельности правительства и отдельных его членов. Таким образом, парламентские системы гораздо больше президентских способствуют горизонтальной подотчетности в политической системе [19, с. 10–12].
Президентские системы, напротив, считаются более склонными к авторитаризму. Олег Процик, развивая классический аргумент Хуана Линца [26], указывает, что основные угрозы президенциализма в посткоммунистическом контексте заключаются в: 1) злоупотреблении указами в целях укрепления президентской власти; 2) «намеренном применении стратегий, направленных на подавление развития политических партий» [28, с. 104]. Очевидно, что эти аргументы, по сути, являются инверсией аргументов Стивена Фиша в пользу парламентских систем. Относительно угроз, присущих исключительно президентско-парламентской системе, можно добавить часто цитируемый аргумент о «Веймарском сценарии» [2, с. 346–347; 3, с. 133; 30, с. 68–71].
Веймарская конституция 1919 г., которая, по всей видимости, является первым примером установления президентско-парламентской системы [17], гарантировала рейхспрезиденту Веймарской республики довольно внушительные полномочия. Назначение канцлера не ограничивалось каким-либо согласием со стороны Рейхстага и, хотя последний имел возможность выносить вотум недоверия правительству, никакого влияния на его новый персональный состав не имел. Что более важно, президенту было предоставлено почти неограниченное право роспуска Рейхстага. И если Фридрих Эберт и Пауль фон Гинденбург (в начале своего президентского правления) опирались на поддержку Рейхстага в формировании правительства, к началу 1930-х годов эта тактика сошла на нет. Экономический кризис и постепенная фрагментация партийной системы, осложнявшая формирование парламентских коалиций, актуализировали использование президентом своих сильных формальных полномочий. Несогласие Рехйстага с кандидатурами канцлера и членов кабинета министров, а также с указом о национальном бюджете в марте 1930 г., вызвало череду роспусков парламента со стороны президента. В итоге количество законов, принятых парламентом, сократилось до минимума, а в период с 1930 по 1932 г. Рейхстаг заседал в общей сумме 148 дней (табл. 4).
Таблица 4
Активность Рейхстага в 1930-1932 гг. (приводится по [30, с. 70])
|
Год |
Законы, принятые парламентом |
Президентские указы |
Общая продолжительность парламентских сессий (дни) |
|
1930 |
98 |
5 |
94 |
|
1931 |
34 |
44 |
41 |
|
1932 |
5 |
66 |
13 |
«В стране нарастала атмосфера чрезвычайщины и неуверенности в завтрашнем дне» [2: 347], а вместе с ней и популярность нацистской партии, обещавшей навести в стране порядок. После назначения Гитлера рейхсканцлером и очередного роспуска Рейхстага национал-социалистам удалось выиграть парламентские выборы 1933 г. и изменить Конституцию, объединив посты рейхсканцлера и рейхспрезидента. Безусловно, причины падения Веймарской республики и установления нацистского режима в Германии не могут быть сведены к несовершенству институционального дизайна, однако именно оно ответственно за конституционные тупики, невозможность сформировать стабильно работающее правительство и фактическое упразднение представительства. Нет сомнений, что все это значительно облегчило приход к власти НСДАП и установление одного из самых кровавых авторитарных режимов в истории.
Таковы основные теоретические аргументы относительно связи между типом выбранного институционального дизайна и демократизацией. Насколько опыт России и Молдовы соответствует этим аргументам?
Вертикальная подотчетность и партийная институционализация
Существующие исследования партийной политики в Молдове показывают, что институционализация политических партий после принятия премьер-президентской Конституции в 1994 г. и перехода на парламентскую систему в 2000 г., а затем обратно в 2016 г., остается слабой, во всяком случае, не превосходящей таковую в других постсоветских странах, которые остановились на модели с более слабым парламентом. Лукан Вэй доказывает, что за период после распада Советского Союза политические партии в Молдове имеют практически идентичные программы, но абсолютно несовместимые личности. «За примечательным исключением коммунистической партии, появившиеся партии представляли собой слабо институционализированные негативные коалиции (сначала антисоветские, а затем антинационалистические), которые быстро распадались после выборов, которые приводили их к власти» [35, с. 462]. Яркий пример – Аграрно-демократическая партия, объединившая бывшие коммунистические сельскохозяйственные и бюрократические элиты. Успех партии на парламентских выборах 1994 г. был очевиден: первое место с 47 процентами голосов и абсолютное большинство в парламенте (56 мест из 101). Однако четыре года спустя доминирующая партия не просто потеряла большинство в парламенте, но и не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер, а три ее лидера пошли тремя разными путями. Премьер-министр Андрей Сангели сохранил членство в партии, спикер Парламента Петр Лучинский баллотировался на президентские выборы 1996 г. как независимый кандидат, в то время как Президент Мирча Снегур основал свою собственную партию – Партию возрождения и примирения Молдовы.
Партийное дезертирство и неожиданные коалиции стали рутинными практиками в молдавской парламентской жизни. Партийное членство было довольно подвижным. Хотя изначально в Парламенте второго созыва (1994–1998) все депутаты являлись членами той или иной партии, к 1998 г. более 25 процентов из них сдали свои мандаты [29, с. 119]. И хотя победившему на президентских выборах Лучинскому удалось создать парламентскую коалицию (Альянс за демократические реформы), она оказалась недолговечной. Даже пропрезидентский блок «За демократическую и процветающую Молдову», возглавивший коалицию, начал распадаться, а его председатель и спикер Парламента Дмитрий Дьяков начал открыто бросать вызов Лучинскому. Такие временные коалиции и регулярные смены партийных аффилиаций безусловно делают крайне затруднительным для избирателей выбор платформы, которая бы представляла их интересы. Надо сказать, что эта черта партийной системы Молдовы не является пережитком 1990-х годов. Политический кризис 2019 г. продемонстрировал схожие паттерны в строительстве коалиций. В разгар кризиса Партия социалистов и блок ACUM, неоднократно заявлявшие о невозможности сотрудничества друг с другом, все же сформировали коалицию в Парламенте и разделили посты спикера и премьер-министра, первый из которых достался лидеру социалистов Зинаиде Гречаный, второй – лидеру входящей в ACUM партии «Действие и солидарность» Майе Санду. Альянс партий подавался во многом как реализация антикоррупционной и антиолигархической повестки обеих партий и как противодействие Демократической партии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку. Через несколько месяцев после разрешения кризиса, в ноябре 2019 г. Партия социалистов, теперь уже объединившись с Демократической партией, вынесла вотум недоверия Правительству Майи Санду и отправила ее в отставку по причине несогласованного с Парламентом изменения Правительством процедуры назначения Генерального Прокурора.
Еще один способ оценки степени институционализации политических партий – анализ их стратегий по выстраиванию отношений со своим электоратом. В зависимости от этого параметра в политической науке принято выделять три типа стратегий: программный (идеологический) тип, когда избирателей привлекает ценностно-идеологическая программа партии, клиентарный тип, который основан на партикуляристском вознаграждении благами конкретных групп избирателей в обмен на поддержку, а также харизматический тип, который строится на личной привлекательности лидера политической партии [24]. Политические партии Молдовы используют каждый из этих типов. И хотя в последние годы наблюдается определенный прирост программно-ориентированного компонента в стратегиях партий [11], многие из них остаются клиентарными. Исследовали Университета Глазго и Бухарестской академии экономических исследований, опираясь на экспертную оценку, заключают, что среди других государств постсоветского пространства со схожим институциональным дизайном (Украина, Грузия), ведущие молдавские партии в гораздо большей степени в своей деятельности ориентируются на клиентарный обмен [21], что говорит о довольно слабой институционализации политических партий.
Пример России несколько лучше соответствует теоретическим представлениям о влиянии институционального дизайна на развитие политических партий. Однако прежде чем приступить к их оценке, остановимся на аргументе о «Веймарском сценарии». Российская Конституция, хоть и заложила двойную ответственность правительства, несколько ограничила вероятность реализации «Веймарского сценария». В соответствии со ст. 103 Конституции, Государственная дума утверждает кандидатуру Председателя Правительства. Однако несогласие Государственной думы с президентской кандидатурой может привести к роспуску парламента в случае трехкратного ее отклонения (ст. 111). Поэтому российский опыт не изобилует примерами конфликта легислатуры и Президента по поводу кандидатуры премьера. Можно обнаружить всего два случая, когда парламент отклонял кандидатуру премьер-министра дважды. В апреле 1998 г. Борис Ельцин только с третьей попытки смог добиться утверждения кандидатуры Сергея Кириенко. Однако уже через четыре месяца в связи с августовским дефолтом Правительство Кириенко было отправлено в отставку, и Президент вновь столкнулся со сложностями в согласовании с Госдумой кандидатуры премьера. Дважды законодатели отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина, и в этой ситуации Президент пошел на компромисс, назначив на этот пост поддерживаемого большинством депутатского корпуса Евгения Примакова. Однако и в данном случае исследователи отмечают, что такой компромисс был удобен Президенту, который в ситуации кризиса финансовой системы мог возложить ответственность за неудачи на Правительство, которое было создано с согласия оппозиционной Думы [10].
Что же касается возможности Государственной думы выносить вотум недоверия Правительству (ст. 117 Конституции), то, обращаясь к практике, мы увидим только один пример использования этого инструмента. Он произошел в июне 1995 г., когда депутаты признали провальной работу министров силовых ведомств, приведшую к террористической атаке на Будённовск. Тогда, однако, Ельцин воспользовался трехмесячным сроком, предусмотренным Конституцией для повторного вынесения вотума недоверия, и за это время согласовал компромиссное решение, отправив в отставку критикуемых министров [8]. Таким образом, российская политическая система избежала «Веймарского сценария». Однако сама угроза его реализации подталкивает к строительству таких институтов, которые бы максимально исключали конфликт между президентом и парламентом [3, с. 133–134]. Самым очевидным выходом в этой ситуации является строительство сильной пропрезидентской партии, которой и стала «Единая Россия». Второй шаг – изменение правил регистрации политических партий и их участия в выборном процессе, которые бы ограничивало угрозу попадания в парламент независимых партий. И именно в этой логике следует рассматривать развитие электорального законодательства в период 2004–2011 гг.
В 2004 г. минимальная численность партии с десяти тысяч поднялась до пятидесяти тысяч. При этом отделения партии не менее чем в половине субъектов должны состоять минимум из пятисот человек [14]. Избирательный залог был повышен до уровня, являвшегося самым высоким в мире (2 миллиона долларов для участия в федеральных выборах); ужесточились требования к подписным листам (количество допустимого брака было сокращено в пять раз); партии и общественные объединения, не являющиеся участниками выборов, лишились возможности регистрировать наблюдателей, «таким образом, невозможность для оппозиции зарегистрировать собственного кандидата одновременно обозначает и невозможность обеспечить гражданский контроль над выборами» [5, с. 110]. Процентный барьер стал вторым из самых высоких среди европейских государств (после Турции) [3, c. 101], а окончательная отмена избирательного залога в 2009 г. еще более существенно ограничила возможности участия в выборном процессе для оппозиционных партий и кандидатов, которые в ситуации постепенного закрытия иных возможностей для их регистрации в качестве участников выборов, пользовались именно этим инструментом.
До поправок в закон о политических партиях, принятых после массовых протестов в Москве, за семь лет в России не появилось ни одной новой политической партии. Их общее количество сократилось с 60 в 2004 г. до 7 в 2009. И только после протестов в электоральном законодательстве появились послабления в части регистрации партий и их выдвижения на выборы. Однако и эти послабления оказались в значительной степени ограниченными в силу муниципального фильтра, повышения требований к сбору подписей, открытию и использованию банковских счетов и иных требований [6].
Что касается программных установок партий, то о высоком уровне институционализации партийной системы по этому параметру также говорить не приходится. Герберт Китшельт и Реджина Смит оценивали партийные системы Восточной Европы по уровню программной связности (programmatic party cohesion), опрашивая партийных руководителей среднего уровня о позиции своей и конкурирующих партий относительно их программных позиций. Разброс этих оценок в российском случае оказался максимальным, что говорит о слабой способности партий конкурировать за голоса избирателей на основе партийных программ [25]. Авторы связывают это как с наследием прошлого, так и с выбором институтов (включая конституционный дизайн), который не формирует стимулов для строительства программных партий.
Горизонтальная подотчетность
Анализируя кейс Молдовы, можно было бы заключить, что Парламент и Конституционный Суд представляют собой эффективные инструменты сдержек и противовесов президентской власти в Молдове. И тому найдется немало примеров. В 1999 г. Президент Лучинский объявил референдум с предложением ввести в стране президентскую систему. Большинство голосовавших поддержало эту инициативу, однако явка оказалась недостаточно высокой, чтобы признать референдум состоявшимся – 58 процентов при пороге в 60. Несмотря на это, Лучинский воспринял результаты голосования как мандат на то, чтобы провести конституционную реформу и сформировал конституционное собрание. В соответствии с предложением собрания, Президент мог бы иметь право назначать и отправлять в отставку премьер-министра и правительство. Срок полномочий расширялся с четырех до пяти лет, а число депутатов снижалось бы со 101 до 70 [16, с. 219]. Достаточно любопытно, что в обоснование изменения Конституции Лучинский ссылался на российский опыт, указывая, что острая необходимость реформ, с которой сталкивается Молдова, крайне схожа с таковой для России и что стране также требуется усиление президентской власти для их проведения. Однако эти попытки Президента Молдовы сменить конституционный дизайн были отвергнуты Парламентом, который подготовил свой проект ее изменения, предусматривающий упразднение всеобщих выборов Президента, и отправил его в Конституционный Суд. Так, в 2000 г. Молдова перешла от премьер-президентской системы к парламентской с Президентом, избираемым Парламентом. Закон также предусматривал и иные конституционные поправки. Парламент получал право отправлять в отставку Президента двумя третями голосов без необходимости созывать референдум, что было предусмотрено в изначальном тексте Конституции. Президент был ограничен двумя сроками пребывания в должности.
Другим примером, когда Парламент и Конституционный Суд воспрепятствовали укреплению президентской власти, была попытка создания антикоррупционного департамента. По задумке Лучинского, этот орган мог бы иметь право расследовать коррупционные правонарушения и задерживать подозреваемых. В то же время департамент напрямую должен был быть подчинен Президенту. «Этот ход был решительно отвергнут Парламентом как узурпация парламентской власти и попытка создать орган по сбору компромата на врагов Лучинского» [35, с. 460]. Конституционный Суд в своем решении постановил, что подобный орган может быть создан только в рамках существующего министерства или ведомства, которые подотчетно Парламенту.
Несмотря на эти кажущиеся говорящими сами за себя примеры, довольно трудно утверждать, являются ли они реальным проявлением сдержек и противовесов в их классическом понимании. Уильям Кроутер отмечает, что учреждение парламентского конституционного дизайна являлось простой калькуляцией со стороны соперников Президента Лучинского [16, с. 219]. К 2000 г. отношения между Президентом и вновь избранным Парламентом вновь зашли в тупик. За это время два премьер-министра из-за требований Парламента ушли в отставку. В попытке назначить нового главу Правительства, Лучинский предложил депутатам утвердить на этом посту Владимира Воронина, главу победившей на выборах 1996 г. Партии коммунистов. Коалиция правых партий ожидаемо отклонила это предложение. Кандидатура нейтрального технократа Валерия Бобуцака также не получила необходимой поддержки. И только с третьей попытки, опасаясь уверенной победы коммунистов в случае досрочных выборов, Парламент утвердил в должность Дмитрия Брагиша. Эти конституционные тупики привели Лучинского к заявлениям, схожим с теми, что несколько лет ранее делал Мирча Снегур: для проведения реформ Молдове необходима президентская форма правления. Не получив кворума на референдуме по изменению Конституции, Лучинский тем не менее получил существенную поддержку со стороны населения. Опросы перед приближавшимися президентскими выборами также предсказывали победу Лучинского. Как доказывает Уильям Кроутер, расчет парламента был прост – победив на выборах, Лучинский распустил бы легислатуру и создал коалицию, необходимую для изменения Конституции. Желание не допустить этот сценарий подтолкнуло парламентские партии преодолеть разногласия и утвердить собственный проект конституционных поправок, предусматривающий упразднение прямых выборов Президента [16].
Что же касается противовесов Президенту и Правительству со стороны судебной власти, то Конституционный Суд действительно играл существенную роль в разрешении множества конституционных кризисов в Молдове. Однако, несмотря на кажущуюся роль стабилизатора, именно Конституционный Суд и вся судебная система является институтом власти, который демонстрирует самый низкий уровень доверия среди населения. На вопрос, какая ветвь власти является самой коррумпированной, 45.7% граждан Молдовы назвали таковой судебную власть, 25.7% законодательную и 22.7% исполнительную. Бизнесмены еще меньше доверяют судам, однако парламенту и правительству доверяют чуть больше (51.8%, 11.6% и 19.8% соответственно) [34, c. 670]. Эти цифры неудивительны. Практически все исследования политического режима Молдовы отмечают, что суды являются сильнейшим инструментом в руках олигархов, в период 2009–2019 гг., прежде всего, Владимира Плахотнюка, который имел серьезное влияние на назначение судейского корпуса [15; 34]. События 2019 г. являются убедительным примером того, что Конституционный Суд в Молдове является не столько элементом механизма сдержек и противовесов и эффективным инструментом разрешения конституционных кризисов, сколько стороной конфликта и оружием в интересах одной группы элит в борьбе против другой. По результатам парламентских выборов в феврале 2019 г. большинство мандатов в Парламенте получили три партии: Партия социалистов (35 мандатов), Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и блок ACUM (26 мандатов). Социалисты и ACUM неоднократно заявляли о невозможности коалиции как с партией Плахотнюка, так и между собой. Формирование Правительства оказалось под угрозой, и только в последний допустимый Конституцией день блок ACUM и Партия социалистов сформировали коалицию и назначили премьер-министра, что лишило демократов постов в Правительстве. Лидер демократов Владимир Плахотнюк объявил об организации митингов в Кишеневе, а Конституционный Суд аннулировал назначение Майи Санду в качестве премьер-министра, а также обязал Президента Игоря Додона назначить досрочные парламентские выборы. Формальный повод – пропуск отведенного Конституцией срока для формирования Правительства. Только после вмешательства представителей России, ЕС и США кризис был преодолен. Владимир Плахотнюк покинул Молдову, а Конституционный Суд отменил все свои решения.
Что же касается российского случая, то сам текст Конституции сделал горизонтальную подотчетность как минимум крайне ограниченной. Мы уже описывали те немногочисленные случаи, когда Государственная дума решалась на конфликт с Президентом по поводу кандидатур Председателя Правительства и вынесения вотума недоверия Правительству. Практически в каждом из этих случаев Государственная дума была стеснена так называемыми «блокированными полномочиями» – трехкратное несогласие с кандидатурой премьера или вынесение вотума недоверия может обернуться для Государственной думы ее роспуском. В этой же связи можно проанализировать и другие примеры институционального конфликта между Президентом и парламентом, а именно попытки импичмента и преодоление президентского вето на принятые проекты законов.
Если не считать попыток отрешения от должности Президента, которые имели место в марте и сентябре 1993 г. (т.е. до принятия Конституции), то новая российская история знает один такой прецедент. Он состоялся в 1999 г., когда Президенту Ельцину были выдвинуты обвинения по пяти пунктам, и один из них (Чеченская война) практически набрал необходимые 300 голосов, таким образом, сделав угрозу импичмента реальной. Но, тем не менее, этот случай вновь подтверждает правило – в критический момент оппозиционно настроенная и даже относительно консолидированная Дума не смогла провести процедуру отрешения от должности Президента. При этом дело даже не дошло до второго шага – решения Верховного Суда об обоснованности выдвинутых обвинений. Поэтому Конституция, действительно, защищает президентскую власть от претензий власти законодательной.
Что же касается права вето, то во время деятельности Государственной думы II созыва оно преодолевалось неоднократно. Однако нередко Президент игнорировал этот факт. Один из самых известных примеров – принятие Федерального Закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», который в начальной редакции устанавливал минимальный размер оплаты труда, пособий и пенсий на уровне не ниже прожиточного минимума. Тогда обе палаты с трудом смогли преодолеть право вето, и у Президента не оставалось иного выбора, кроме как подписать закон, либо обратиться в Конституционный Суд для проверки положений закона на соответствие нормам Конституции. Тем не менее, Президент отказался и от того и от другого, и возвратил закон в верхнюю палату, ссылаясь на нарушение ею собственного регламента при утверждении федерального закона [12]. В то время как нижняя палата готовила обращение в Конституционный Суд, порядок формирования Совета Федерации изменился – верхняя палата перестала быть избираемой напрямую. И следующий ее состав из 120 необходимых голосов по законопроекту набрал лишь 44 [12]. Во время работы Государственной думы II созыва право вето также несколько раз преодолевалось, особенно после выборов губернаторов в 1995–1996 гг. (что сделало Совет Федерации политически чуть ближе к Государственной думе), но чаще всего это приводило не к подписи Президента, а к консервированию законопроекта.
Таким образом, мы видим, что Конституция 1993 г. наложила серьезные ограничения на осуществление контроля за исполнительной властью со стороны Федерального Собрания, даже в случае его оппозиционной направленности и относительной солидарности. Реформы 2000-х годов сделали крен в сторону президентской власти еще более существенным. Упразднение прямых выборов губернаторов в декабре 2004 г. повлияло не только на федеративные отношения, но и на горизонтальное разделение властей. Поскольку половина сенаторов назначалась главами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Президент вместе с правом выдвигать кандидатуры губернаторов получил возможность влиять и на выбор половины верхней палаты Федерального Собрания. Более того, 23 мая 2014 г. Государственная дума приняла закон, в соответствии с которым Президент наделялся полномочиями назначать собственных представителей в Совет Федерации. Так называемая «президентская квота» может достигать десяти процентов от общего числа сенаторов.
Усилению президентской власти в России через другие источники посвящена обширная литература [1, 4, 13, 31]. Трудно сказать, вызвано ли оно угрозой Веймарского сценария или более широко – нежеланием входить в этап так называемого сожительства (cohabitation), когда парламент и президент принадлежат конкурирующим партиям. Однако ясно одно – изначально низкие возможности легислатуры сделали невозможным противостоять этому усилению, и в этом виден очевидный контраст между российским и молдавским случаями.
Институциональный дизайн и динамика политического режима: пересмотр теории
Сравнительный кейс-стади показал, что институциональные объяснения динамики политического режима демонстрируют разную объяснительную силу в случае России и Молдовы. Если аргументы об «угрозах президенциализма» и ссылка на Веймарский сценарий находят эмпирическое подтверждение в случае России, то аргументы о достоинствах парламентаризма на молдавском примере выглядят крайне уязвимыми. Сложно не согласиться с основным тезисом Лукана Вэя, что плюрализм в Молдове – это не результат правильного выбора институтов, развитого гражданского общества или близости к Европейскому союзу, а скорее отсутствие игроков, которые бы обладали достаточной силой, чтобы консолидировать власть. Молдова должна рассматриваться не как кейс примечательной демократизации, а скорее, как не менее примечательный кейс «провалившегося авторитаризма» [35].
Похоже, такой же сдвиг в объяснении требует и протестированная в этой статье теория. Институциональный выбор, безусловно, задает ограничительные рамки для политических акторов. Однако сам по себе он должен рассматриваться не только и не столько как причина того или иного политического развития. Он также является следствием той или иной структуры элиты и стратегий ее отдельных групп. Если после силового разрешения октябрьского кризиса 1993 г. ни одна из групп элит не могла бросить вызов Президенту Ельцину в продвижении его проекта Конституции, ситуация в Молдове была прямо противоположенной. Она характеризовалась отсутствием какой бы то ни было доминирующей силы. Даже собственная партия Президента Снегура не поддержала его в стремлении прописать в тексте Конституции положения о президентском характере республики, не желая уступать полномочия исполнительной власти. Но почему парламент не решился на принятие парламентской системы? Дело в том, что, как показал Чарльз Кинг, в ситуации неопределенности и нестабильности партийной системы, ни один из депутатов не решался на резкие ходы и предпочитал сохранение статуса кво [23, с. 161]. Аналогичную гипотезу выдвигает Тимоти Фрай: «в условиях неопределенности властные акторы склоняются разделять свои ставки и создавать институты, которые оказываются в меньшей степени в их пользу, чем если бы они действовали в условиях полной определенности» [20, c. 546–547]. Таким образом, парламентарии просто утвердили уже сложившуюся систему и приняли премьер-президентскую систему по умолчанию. Стоит напомнить, что в момент принятия российской Конституции парламент просто отсутствовал как субъект принятия решений и посему в этом процессе не участвовал. Таким образом, как в российском, так и в молдавском случае выбор институтов закреплял существующее положение внутри элиты (доминирование Президента и разгромленный парламент в России и плюрализм политических акторов в Молдове) и во многом соответствовал ее краткосрочным целям. Институциональный дизайн, безусловно, задает ограничительные рамки политическим взаимодействиям. Однако нужно помнить, что единственный смысл этих рамок – закрепление того баланса, который сложился между конкурирующими акторами на момент выбора институтов. Поэтому без ответа на вопрос «почему был сделан тот или иной выбор институтов и не сохранились ли его исходные причины» любые институциональные объяснения режимных трансформаций будут демонстрировать весьма ограниченные результаты.
Приложение 1
Результаты однофакторного дисперсионного анализа
по переменным «тип институционального дизайна» и «уровень демократии»
Переменная
|
Df
|
Sum Sq
|
Mean Sq
|
F value
|
Pr(>F)
|
Институциональный дизайн
|
3
|
81.87
|
27.291
|
35.93
|
4.89e-09 ***
|
Остатки
|
24
|
18.23
|
0.759
|
|
|
Pr(>F) c поправкой Бонферрони: 2.934e-08 ***
*** – различия достоверны при уровне статистической значимости < 0.0001
[i] В данной статье институциональный дизайн понимается в узком смысле как способ разграничения полномочий и определения механизмов взаимодействия между различными ветвями власти. Понятия «институциональный дизайн» и «конституционный дизайн» используются как взаимозаменяемые.
В качестве рабочего определения политического режима мы остановимся на определении, данном Гильермо О’Доннеллем и Филиппом Шмиттером («политический режим – это вся совокупность явных или неявных моделей, определяющих формы и каналы доступа к важнейшим управленческим позициям, характеристики субъектов, имеющих такой доступ или лишенных его, а также доступные субъектам стратегии борьбы за него», цит. по [2, c. 70]). Признавая разнообразие классификаций политических режимов, в целях настоящего исследования в качестве рабочей схемы будет достаточно принять дихотомию между демократией и авторитаризмом.
1. Gel'man V. Rossiya v institutsional'noy lovushke [Russia in an institutional trap]. Pro et Contra. 2010, V.14, I. 4-5, pp. 23-38.
2. Golosov G. Sravnitel'naya politologiya: uchebnik. 4-e izd., pererab. i dop. [Comparative Political Science: A Textbook. Fourth revised and supplemented edition]. Saint Petersburg, EUSP Press, 2018, 462 p.
3. Golosov G. Demokratiya v Rossii: instruktsiya po sborke [Democracy in Russia: an assembly instruction]. Saint Petersburg: BHV-Peterburg, 2012. 208 p.
4. Dudko I. Razdelenie vlastey: teoreticheskie vozzreniya i rossiyskaya praktika [Separation of powers: theoretical views and the Russian practice]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Tyumen State University]. 2009, V. 2, pp. 149-156.
5. Zhavoronkov S. & Yanovskiy K. Politicheskie instituty: ot El'tsina do Medvedeva [Political institutions: from Yeltsin to Medvedev]. Ekonomika perekhodnogo perioda. Sbornik izbrannykh rabot. 2003-2009 [The economy of transition. The collection of the selected works. 2003-2009]. Moscow, Izdatel'stvo Delo Publ., 2010, pp. 101-121
6. Kurochkin A. Prichiny ogranichennoy elektoral'noy konkurentsii rossiyskikh politicheskikh partiy [The reasons for the limited electoral competition between the Russian political parties]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politologiya. Religiovedenie [Reports of the Irkutsk State University. Series: Political Science. Religious Studies]. 2019, V. 29, pp. 19-27.
7. Makarenko B. & Mel'vil' A. Kak i pochemu «zavisayut» demokraticheskie tranzity? Postkommunisticheskie uroki [How and why do democratic transits hamper? Postcommunist lessons]. Politicheskaya nauka [Political Science]. 2014, I. 3, pp. 9 - 39.
8. Makarenko B. Rossiyskiy politicheskiy stroy: opyt neoinstitutsional'nogo analiza [The Russia’s political system: neoinstitutional analysis]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World economics and international relations]. 2007, I. 2, pp. 32-42.
9. Mel'vil' A & Stukal D. Usloviya demokratii i predely demokratizatsii. Faktory rezhimnykh izmeneniy v postkommunisticheskikh stranakh: opyt sravnitel'nogo i mnogomernogo statisticheskogo analiza [The conditions of democracy and the limits of democratization. Factors of regime changes in post-communist countries: the comparative and multivariate statistical analysis]. Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis.Political Studies]. 2011, I. 3, pp. 164-183.
10. Nisnevich Yu. Politiko-pravovoy analiz protsedury formirovaniya i otstavki Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii [The political and legal analysis of the procedure for the formation and resignation of the Government of the Russian Federation]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Politologiya [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Political Science]. 2007, I. 2, pp. 5-15.
11. Protsyk. O. Partiynaya konkurentsiya v Moldove: ideologiya, organizatsionnye strategii i podkhody k razresheniyu etno-territorial'nykh konfliktov [Party competition in Moldova: ideology, organizational strategies and approaches to resolving ethno-territorial conflicts]. Chișinău, CEP USM, 2007, 214 p.
12. Smolin O. «Impichment» bez otresheniya: popytka chetvertaya i poslednyaya [“Impeachment” without renunciation: the fourth and the last attempt]. Available at: http://www.democracy.ru/curious/democracy/smolin/page31.html (Accessed: 08.09.2019).
13. Startsev Ya. Porucheniya Prezidenta RF: analiz instrumenta diskretsionnoy vlasti [The instructions of the President of the Russian Federation: analysis of the instrument of discretional power]. Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest. 2000, V. 31, I. 2, pp. 139-158.
14. Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 20 dekabrya 2004 g. N 168-FZ «O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon "O politicheskikh partiyakh» [The Federal Law of the Russian Federation of December 20, 2004 N 168-FZ "On Amendments to the Federal Law ‘On Political Parties’"]. Available at: http://ivo.garant.ru/#/document/12138107/paragraph/2:0 (Accessed: 08.11.2019).
15. Całus K. Moldova: from oligarchic pluralism to Plahotniuc’s hegemony. Warsaw, Centre for Eastern Studies, 2016, 9 p.
16. Crowther W. Semi-presidentialism and Moldova’s flawed transition to democracy in Moestrup, S. & Elgie, R. & Wu, Y. (ed.) Semi-presidentialism and Democracy. Palgrave Macmillan, London, 2011, pp. 210-228.
17. Elgie, R. Searching for the first semi-presidential country - France 1848. Available at: http://www.semipresidentialism.com/?p=1048 (Accessed: 08.11.2019).
18. Elgie, R. Semi-presidentialism: Sub-Types And Democratic Performance. Oxford, Oxford University Press, 2011, 206 p.
19. Fish M. Stronger legislatures, stronger democracies. Journal of democracy. 2006, V. 17, I. 1, pp. 5-20.
20. Frye T. A politics of institutional choice: post-communist presidencies. Comparative political studies. 1997, V. 30, I. 5, pp. 523-552.
21. Gherghina S. & Volintiru C. Party Organization and Clientelism in Transition Countries: Evidence from Georgia, Moldova and Ukraine. ECPR Joint Session of Workshops. Nikosia, 2018, 20 p.
22. Huntington, S. The third wave. Norman, University of Oklahoma Press, 1993, 366 p.
23. King C. The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture. Stanford, Hoover Press, 2013, 304 p.
24. Kitschelt H. Linkages between citizens and politicians in democratic polities. Comparative political studies. 2000, V. 33, I. 6-7, pp. 845-879.
25. Kitschelt H & Smyth R. Programmatic party cohesion in emerging postcommunist democracies: Russia in comparative context. Comparative Political Studies. 2002, V. 35, I. 10, pp. 1228-1256.
26. Linz J. The perils of presidentialism. Journal of democracy. 1990, V. 1, I. 1, pp. 51-69.
27. Lipset S. Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. American political science review. 1959, V. 53, I. 1, pp. 69-105.
28. Protsyk O. Semi-presidentialism under post-communism in Moestrup, S. & Elgie, R. & Wu, Y. (ed.) Semi-presidentialism and Democracy. Palgrave Macmillan, London, 2011, pp. 98-116.
29. Roper S. From semi-presidentialism to parliamentarism: Regime change and presidential power in Moldova. Europe-Asia Studies. 2008, V. 60, I. 1, pp. 113-126.
30. Shugart M. & Carey J. Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge University Press, 1992, 316 p.
31. Startsev Y. Institutionalizing the Russian President's "implicit" powers: the exercise of presidential power. Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest. 2008, V. 39, I. 2, pp. 93-116.
32. The Economist Intelligence Unit's Democracy Index (2018). Available at: https://infographics.economist.com/2019/DemocracyIndex/ (Accessed: 06.11.2019).
33. The World Bank. GDP per capita (constant 2010 US$) Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2017&locations=SI-CZ-SK-RU-UZ-TM-TJ-MD&start=1987&type=points&view=chart (Accessed: 06.11.2019).
34. Tudoroiu T. Democracy and state capture in Moldova. Democratization. 2015, V. 22, I. 4, pp. 655-678.
35. Way L. Weak states and pluralism: The case of Moldova. East European Politics and Societies. 2003, V. 17, I. 3, pp. 454-482.