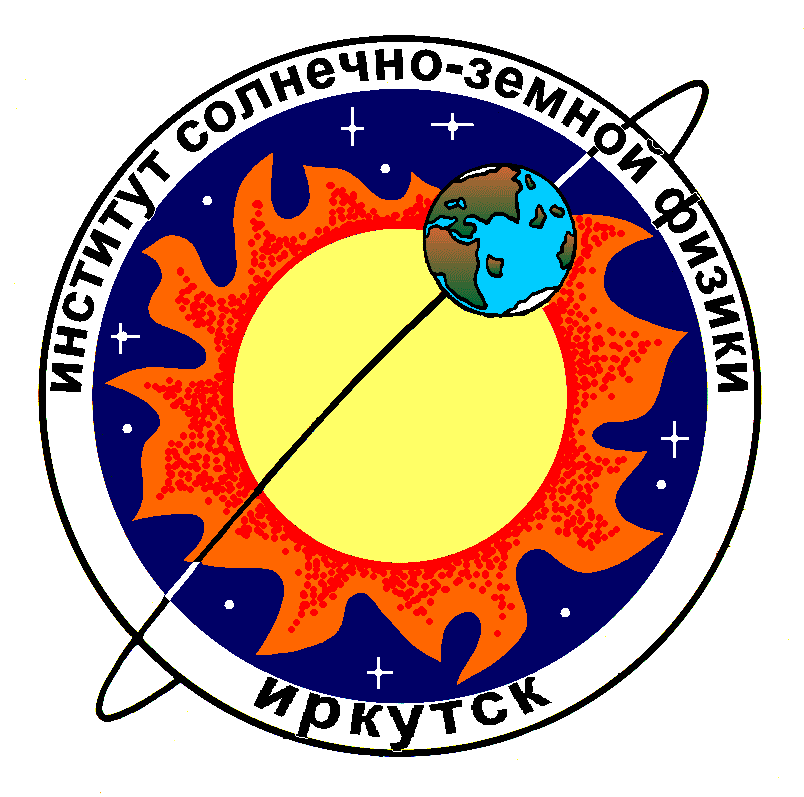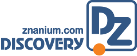Россия
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Модель смены мировосприятия, отраженная в рассказе «Учитель словесности», представляется типично чеховской. Писатель тщательно фиксирует тот самый роковой шаг, который отделяет счастье от несчастья (в данном случае несчастье принимает форму пошлости). Шаг этот начинается с рассуждений (с деятельности сознания), а заканчивается прозрением – и, соответственно, изменением картины мира. Далее приходит осознание невозможности что-либо изменить. Человек становится умнее, а жить ему становится труднее: таков итог художественного исследования Чехова.
Чехов, рассказ «Учитель словесности», любовь, счастье, психика, сознание, противоречия.
Феномен творчества А.П. Чехова заключается в том, что писатель сумел обнаружить и художественно зафиксировать во внутреннем мире человека раздирающие его противоречия: с одной стороны, высокое стремление к универсальной истине («общей идее», «генеральной идее» – названия в текстах Чехова встречаются разные), а с другой стороны, невозможность жить без «маленькой правды», без идеологической «зацепки», желание жить просто, совершенно без стремления к истине. Счастье и несчастье человека парадоксальным образом располагаются между этими ментальными полюсами – «зацепкой» и истиной. Собственно, между психикой и сознанием. Именно художественное исследование взаимодействия психики и сознания приобрело Чехову как писателю мировое имя.
Чехов, единожды поняв, никогда не уклонялся от ностальгии по общей идее, и все идеологические «зацепки», которые в той или иной степени воплощали идею генеральную, искомую, высмеивал беспощадно: от мягкой иронии до вполне ядовитого сарказма (см. ту же «Душечку») – вот воинственный арсенал комической палитры. Такое впечатление, что у него были личные счеты с узколобостью идеологии. Да иначе и быть не могло: это даже не путь Чехова, это универсальный путь духовного становления и мужания любой личности. Чехов интересен как раз тем, что во множестве вариантов представил коренной духовный архетип.
Все его рассказы об одном и том же: о несовершенстве и скудности жизни, о торжестве пошлости, о самовлюбленности «зацепившихся», о разочаровании прозревших. Вариантов – много, стержень – один. В данном случае позволим себе проиллюстрировать ностальгию по «правде» («до правды еще далеко», по словам художника, главного героя «Дома с мезонином») рассказом удивительно совершенным и лаконичным. Речь идет об «Учителе словесности» (1894).
Три года – ровно столько понадобилось герою рассказа «Три года» (1895), чтобы развеялись его возвышенные иллюзии. Однако, утверждает А.П. Чехов в рассказе «Учитель словесности», достаточно и года, чтобы блаженство обернулось мертвящей скукой. Отныне – и навсегда.
Строго говоря, метаморфоза от счастья к пошлости содержит в себе какой-то универсальный закон.
Вот прелюбопытная модель такого рода отношений с миром – «Учитель словесности». Маша Шелестова, Мария Годфруа, Манюся (перекличка с Мисюсь, героиней рассказа «Дом с мезонином», очевидна) любит гимназического учителя словесности Сергея Васильевича Никитина. И он ее любит, нежно и поэтично, как Лаптев свою Юлию («Три года»). Редкий случай полной взаимности, полного отсутствия помех для «земного» счастья – «и будущее кажется прекрасным». Для чистоты эксперимента созданы все надлежащие условия. Была, правда, сестра Манюси, Варя, некий аналог Лиды Волчаниновой («Дом с мезонином»), девушка ворчливая и, разумеется, «умная и образованная». Но и она не стала препятствием для блаженства.
Посмотрим на баловней судьбы в начале их пути к прекрасному будущему. Молодые, здоровые и красивые люди едут на «превосходных и дорогих лошадях». Даже не так: рассказ начинается с изысканной звукописи: «Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол»… Поэтическое мировосприятие доминирует. «Был седьмой час вечера – время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. (…) А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, -- тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!».
Перед нами райский вечер – и какой разительный контраст с мрачным утром, которым начинается «Три года». Восторг и упоение жизнью захлестнули Никитина настолько, что он не замечал нормальную пошлость, мирно соседствовавшую с высоким и одухотворенным строем чувств. «Ну, дом! – думал Никитин, переходя через улицу. – Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!».
А между тем пошлости было хоть отбавляй, пошлость выпирала и красовалась. Собственно, пошлым было все то, что так нравилось Никитину или окружало его – однако он был влюблен в Маню, а любовь слепа. Любви нет дела до пошлости. Пошлое общество, пошлые споры, глупая манера поведения Вари, мещанское изобилие псов и кошек в «доме», пошлая занудливость старика Шелестова, символ мертвящей скуки и пошлости бессмертный Ипполит Ипполитыч, дурак Полянский, «мумия» Шебалдин, бригадный генерал со своим пошлым «розаном»… Но воплощением и олицетворением пошлости была Манюся, женившись на которой Никитин утонул в «полном, разнообразном счастье». «Разумная и положительная» Маня с энтузиазмом завела «настоящее молочное хозяйство», обнаружила сверхрачительность, и даже мелочность, столь необходимые хозяйке. «То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно». «Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. (…) Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность – все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью…» «Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, -- говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу». Счастье Никитина, «личное счастье» – тоже было пошлым, и оно все увеличивалось. «Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в вист».
А зима, заметим, «была вялая», «во весь учебный сезон не было никаких особенных событий».
Что же разрушило эту молочно-кисельную образцовую идиллию? Что заставило Никитина схватиться за голову («когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол»)?
Объяснение очень простое. Началось все с невесть откуда взявшихся рассуждений о том, что счастье «досталось ему даром, понапрасну», оно было излишней «роскошью» и «имело какое-то странное, неопределенное значение». Учитель словесности отлично понимал, что «эти рассуждения сами по себе уже дурной знак». И уже дома, куда, кстати, ему впервые не хотелось идти, ему как-то сразу, вдруг открылась пошлая природа Манюси. Пелена спала с глаз, и он в новом свете увидел не только жену, но и себя вместе со своим счастьем. «Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир… И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать… Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны». [1] Никитину не хватало дела и деятельности. Сам себе он казался уже не «творцом своего счастья», не педагогом и учителем словесности, а «чиновником», «бездарным и безличным»; «никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно и, быть может, даже он учил тому, что не нужно».
Так что же произошло? Произошла обыкновенная трагедия: у господина Никитина проснулось сознание. Он задумался – а счастье как материя психологическая не терпит критики или анализа. «Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем».
Получается: когда есть «иллюзии» (зацепки), когда не замечаешь пошлой реальности – тогда и сам пошло счастлив; но как только начинается «сознательная жизнь» – тут уж прощай, счастье. Вот почему счастье у Чехова бывает только пошлым; нечто достойное человека, мыслящего существа, перестает быть счастьем, превращаясь в какую-то «нервную» долю, судьбу, которую можно разве что влачить.
Кстати, по поводу судьбы. Судьба, собственно, не скрывала, что жизнь прожить – не поле перейти. Имеющий глаза увидел бы следующее (между прочим, в самом начале рассказа): «Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь. Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад». Странный пассаж, диссонансами деталей вторгающийся в общем и целом счастливую картину мира (каркающие грачи, чернеющие бахчи, кладбище, отцветающие яблони, бойни). Все эти мрачные реалистические детали располагаются на периферии поэтического мировосприятия. Никитин их в упор не замечает. Не желает замечать. Он видит другую весну, особую – ту, которую хочет видеть. В угоду своим желаниям он «стирает случайные черты», все эти бойни и кладбища. А судьба предлагала более объективную картину…
Вот он, закон мировосприятия: сознание видит то, что существует, психика – то, что хочется видеть. А человек выбирает.
«Начиналась весна, такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости…» Однако Никитин понимал, что «покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно». «В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!».
Это, конечно, романтическая стадия горя от ума. Начинающий лишний, Никитин еще не понимает, что альтернатива «страшной», но такой жизнеутверждающей пошлости и счастью – путь к смерти. Чехов очень дорожит этой романтической стадией, останавливая героев у последней черты, обрывая их судьбы на самом интересном месте, не лишая их последней призрачной надежды. «Поживем – увидим». Эта стадия позволяет поэтизировать возвышенный строй мыслей – отсюда знаменитый чеховский лиризм. Герои уже выше пошлости, но еще не обрели неземного образа мыслей. Еще чуть-чуть – и…
Откуда такая уверенность, что они отыщут философский камень – неземную общую идею?
Это не уверенность, это последняя зацепка, надежда, что и от пошлости можно уйти, и смерти как-то избежать. В сущности, формулируется проблема: как бы это жить «сознательной жизнью» и ощущение «полного и разнообразного счастья сохранить».
Но это и есть проблема психики и сознания. Никитин за голову хватается при виде пошлости, собирается бежать от нее, не понимая, что жизнь торжествует только через пошлость. Учитель словесности нарушает первую заповедь лишнего: не искажай реальность, принимай ее такой, какая она есть, без сожалений оставь зацепки. А бежать от себя – это, конечно, зацепка. Чехова давно уже объявили борцом с пошлостью, в которой, словно в тине, тонут многие его герои. Самый одиозный из них – Ионыч. Странно, что никому не пришло в голову: бороться с пошлостью – бороться с жизнью. Не потому ли герои Чехова испытывают чувство вины перед жизнью – и отсюда вся их рефлексия с гнильцой? Они безотчетно «понимают», что не только жизнь «не такая», полужизнь, но и они «не такие».
Вот это и есть тот самый экзистенциальный пустячок, который не позволяет героям Чехова осмелиться стать счастливыми, открыть калитку и просто выйти из логически-магического круга, который у них в голове, а не в реальной жизни. «Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как? (Это уже Дмитрий Дмитрич Гуров из «Дамы с собачкой» – А.А.)
И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается».
Потрясающее диалектическое чутье демонстрирует Чехов, чутье человека умного и порядочного, к тому же беспредельно, по-русски, талантливого.
[1] Социальные сдвиги того времени предопределялись заметными переменами в материальной жизни, которые неоднократно рассматривались в работах российских авторов, изучавших современный А.П. Чехову период отечественной истории [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
1. Рассказ цитируется по изданию: Чехов А.П. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, 6, 7. - М., «Правда», 1970.
2. Андреев А.Н. Информационная структура личности как категория педагогики//Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. - 2018. - Т. 7. - № 3. - С. 15-19.
3. Артемьева С.И. Современный гуманизм: обращение к истокам//В сборнике: Теоретические и методические проблемы современного образования Материалы международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 138-145.
4. Артемьева С.И., Иванцова Н.Ф. История России 1900-1917 гг. социально-экономический аспект. Рецензент: доктор исторических наук, профессор Н.С. Модоров, кафедра отечественной истории БиГПИ. Бийск, 2000. - 96 с.
5. Артемьева С.И. Интеллигенция и традиция: два направления в российском самосознании// В сборнике: Логика социокультурной эволюции. - 1996. - С. 188-192.
6. Гладков И.С., Зорина И.Ю. Развитие российской промышленности в XIX - начале XX веков//Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - № 5. - С. 72-76.
7. Гладков И.С., Пилоян М.Г. Граф Е.Ф.Канкрин: воспоминание о будущем//Международная жизнь. - 2012. - № 13. - С. 148-157.
8. Гладков И.С., Пилоян М.Г. История мировой экономики: Научное издание/2-е издание. -М.: ИЕ РАН, Проспект. 2016. - 384 с.
9. Шатило И.С., Кащенко Т.Л. Гуманитарная культура как феномен духовности//Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. - 2013. - Т. 2. - № 3 (4). - С. 10-19.