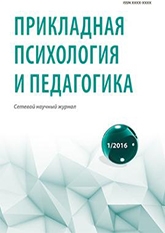Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Статья посвящена изучению личностных предикторов, обеспечивающих сохранение экстремальными добровольцами служебной информации, а также на создании средства их психодиагностической оценки. Показана актуальность изучения психологических аспектов волонтёрства, в первую очередь, связанных с использованием конфиденциальной информации. Акцент сделан на разработке психодиагностической модели склонности экстремальных добровольцев к сохранению служебной информации. Предмет научного изыскания – особенности личности экстремальных добровольцев, предопределяющие их склонность сохранять информацию ограниченного пользования. Цель – установить личностные предикторы, интегрированные в модель изучения склонности экстремальных добровольцев к сохранению служебной информации, на основе которых разработать диагностический инструментарий их оценки. В основе методологии исследования лежат аксиологический и субъектно-деятельностный психологические подходы. Исследование проводилось с применением контент-анализа научных источников, анкетирования, экспертного оценивания, психологического тестирования по методике оценки склонности к сохранению служебной тайны В.Е. Петрова. Объём выборки тестирования составил 133 человека, экспертного оценивания – 12 человек, анкетирования – 14 человек. Обработка тестовых данных проходила в форме описательной статистики и корреляционного анализа, а также оценки различий в группах. По итогам исследования была сформирована пятифакторная диагностически значимая модель, определяющая склонность добровольцев к сохранению служебной тайны в экстремальных условиях. Предикторами и оценочными шкалами выступили три характеристики нравственно-ценностной сферы (самодостаточность; нормативность поведения; скрытность), по одной характеристики когнитивной (прогностичность) и волевой (самоконтроль) сфер. Новизна научного изыскания состоит в том, что обоснован паттерн качеств экстремальных добровольцев, предопределяющих их обращение с конфиденциальными сведениями, и разработана методика изучения склонности к сохранению служебной информации. Верифицированы некоторые психометрические характеристики прикладного диагностического средства – нормативные данные, критериальная валидность, дифференциальные способности методики. Практическая значимость исследования образована возможностью использования авторского опросника при изучении личности будущих и действующих экстремальных добровольцев, а также потенциалом совершенствования психологической работы с представителями профессий особого риска.
защита информации; экстремальное добровольчество; служебная тайна; личностный выбор; склонность; психодиагностика; экстремальность
Введение. Одной из форм действенного участия граждан в жизни общества и государства выступает волонтёрство. Применительно к соучастию в обеспечении государственной безопасности, поддержке проведения специальной военной операции, защите интересов Отечества в научный терминологический оборот вводится феноменология «экстремальное добровольчество». Однако если проблематика различных форм волонтёрства достаточно широко представлена в психологических, педагогических, социологических и иных междисциплинарных исследованиях [12, 17, 21 и др.], то возможности научного знания в области экстремального добровольчества существенно ограничены. Так, опыт волонтёрства трансформируется в модели личности (Е.Н. Басов Е.Н., В.А. Питкин, Т.Р. Хворостова [4], М.И. Логвинова, Т.И. Богачева [6], В.Н. Стегний, М.В. Никонов [14], H. Akhtar [20] и др.) и деятельности (В.В. Артамонова [2], А.М. Торотоева [15] и др.). Психологические аспекты различных видов волонтёрства нашли отражение в публикациях Е.С. Азаровой, Е.В. Акимовой, Н.С. Ворониной, А.А. Гречаной, А.М. Евлегиной, М.В. Певной, Н.А. Потаповой, Е.А. Серовой, Ф.В. Цраевой, А.А. Шагуровой, М.С. Яницкого и др. В центр научного исследования экстремальное добровольчество напрямую поставлено лишь в работах В.Е. Петрова (например, [11]).
Деятельность добровольцев в экстремальных условиях предъявляет особые требования к личности субъекта. Спецификой бытия является работа со сведениями, имеющими конфиденциальный и ограниченный к распространению характер. Опасность для конкретной личности, воинского (служебного) коллектива, государства представляют: смарт-техника, мессенджеры или технологии Интернет-коммуникации, фото- и видео- сведения с геолокацией, вооружением, событиями и т.п. (В.А. Васильев, С.А. Васильева [5], Н.А. Лызь, Г.Е. Веселов, А.Е. Лызь [7], М.А. Мадоян, С.М. Мадоян [8], Д.К. Скуратовский, З.А. Бадамшин [13] и др.). Не осознавая того, доброволец может стать участником информационно-психологической войны (Н.А. Акопян [1], А.А. Бартош [3], Е.В. Холодная [18] и др.). Информационно-психологическая безопасность личности в экстремальных условиях связана с необходимостью соблюдать служебную тайну (С.Ю. Махов, Р.В. Еремин [9], Е.Н. Щеглов [19] и др.). На существование проблемы укрепления информационной безопасности России в связи с проведением специальной военной операцией на Украине указывает С.М. Небренчин [10]. Предпринимаются отдельные попытки исследования факторов психологической детерминации склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны (М.И. Марьин, В.Е. Петров, А.В. Кокурин и др. [16]). Несмотря на наличие фрагментарных научных исследований в области информационно-психологической безопасности и психологии волонтёрства, проблематика установления личностных предикторов склонности экстремальных добровольцев к сохранению служебной тайны и диагностического инструментария их измерения остаётся актуальной для современной психологической науки и практики. Подобный аспект послужил основанием для проведения нами соответствующего научного исследования.
Методика исследования. Цель научного изыскания – обосновать личностные предикторы склонности экстремальных добровольцев к сохранению служебной тайны, на основе которых разработать соответствующий диагностический инструментарий. В основе методологии исследования лежат аксиологический и субъектно-деятельностный психологические подходы. Исследование проводилось с применением контент-анализа научных источников, анкетирования, экспертного оценивания, психологического тестирования (методика оценки склонности к сохранению служебной тайны В.Е. Петрова, МОССТ-ЭД, форма «W-76).
Всего в исследовании 2023-2024 гг. приняло участие 159 респондентов. Психологическим тестированием было охвачено 133 человека (военнослужащие – 42 чел., сотрудники правоохранительных органов – 15 чел., экстремальные добровольцы – 30 чел., студенты – 46 чел.). Возраст – 26,7±9,4 лет. Мужчины – 106 чел. (79,7 %), женщины – 27 чел. (20,3 %). После проверки валидности тестовых данных к обработке и интерпретации допущено 119 протоколов. К исследованию привлекалось 12 экспертов (командиры, психологи, преподаватели). В анкетировании участвовало 14 военнослужащих (представители подразделений по защите государственной тайны – 9 чел., заместители командиров по военно-политической работе – 2 чел., психологи – 3 чел.). Обработка тестовых данных в форме описательной статистики и корреляционного анализа проводилась на выборке 119 чел. Для оценки различий в общей выборке выделялись контрастные по профессии группы: 1) «экстремальные добровольцы (n1=21); 2) «студенты» (n2=35).
Результаты исследования и их обсуждение. Выделение предикторов склонности экстремальных добровольцев к сохранению служебной тайны проведено на основе контент-анализа научных источников (начальный этап) и анкетирования (основной этап). Было установлено более 35 важных для сохранения информации ограниченного пользования качеств, среди которых были такие как: ответственность, самоорганизованность, надёжность, эмоциональная стабильность, порядочность, исполнительность. После ранжирования данных анкетного опроса по среднему баллу выделено пять ведущих предикторов, которые составили основу диагностической структуры. При разработке модели учитывались результаты, проведённых нами ранее научных исследований [11, 16].
Измерительное диагностическое пространство оценки склонности экстремального добровольца к сохранению служебной информации представлено пятифакторной структурой. Векторами модели являются: 1) самодостаточность (нравственно-ценностный компонент); 2) нормативность поведения (нравственно-ценностный компонент); 3) скрытность (нравственно-ценностный компонент); 4) прогностичность (когнитивный компонент); 5) самоконтроль (волевой компонент). Раскроем их психологическое содержание.
1. Самодостаточность – это характеристика личности, проявляющаяся в способности добровольца адаптироваться к экстремальным условиям без поддержки других людей, не испытывая одиночество или отчуждённость. Проявляется в информационной независимости, автономии, уверенности в собственных силах. Самодостаточный доброволец не будет презентовать свои поступки фото- или видео-материалами из зоны вооружённого конфликта, не будет сообщать сведения, связанные с выполнением задач в особых условиях, не будет использовать запрещенную смарт-технику.
2. Нормативность поведения – это характеристика личности, определяющая степень выраженности у индивида осознанности в соблюдении правовых норм и правил в области оборота информации, имеющей ограниченное пользование, а также иных сведений, разглашение которых могут нанести вред коллективу, обществу или государству. В основе предиктора лежит не только осознание необходимости сохранения тайны, но и строгое следование требований по обороту конфиденциальной информации. Нормативность тесно связана с такими качествами экстремального добровольца как принципиальность, пунктуальность, идейность, сформированность чувства долга, добросовестность, ответственность.
3. Скрытность – это характеристика личности, связанная со стремлением не распространять, хранить (скрывать, утаивать) или оберегать от третьих лиц сведения, ставшие известными (доступными) индивиду в силу различным причин. Предиктор не исключает общительность или экстравертированность личности, а предполагает ограничение передачи окружающим конфиденциальных сведений.
4. Информационная прогностичность – это характеристика личности, связанная со склонностью индивида предвосхищать развитие событий в области защиты служебной тайны, превентивно оценивать их реальную опасность. Базируется на исключении рискованного поведения и неопределённости, поступков на «авось» или авантюризма при обращении со сведениями ограниченного пользования. Любые модели поведения экстремального добровольца должны быть просчитаны далеко наперёд.
5. Самоконтроль – это характеристика личности, определяющая его склонность контролировать мысли, эмоции, поведение в части работы с информацией, имеющей гриф секретности, следовать необходимому и нормативно допустимому в области сохранения служебной информации. Вне зависимости от ситуации в зоне ведения боевых действий, особенностей организации жизнедеятельности, необходимости взаимодействия с родными и близкими работа со сведения ограниченного пользования требует от добровольца собранности, самодисциплинированности, выдержки.
Склонность добровольца к сохранению служебной информации в экстремальных условиях – это интегральное личностное образование, определяющее ориентацию субъекта на ответственное отношение к информации, носящей гриф ограниченного пользования (не подлежащая разглашению), на недопущение разглашения сведений, которые могут нанести вред государству, обществу или конкретной организации (ведомству, воинскому или служебному коллективу). Её одноуровневая структура может быть описана в предикторах ценностно-смысловой (скрытность, нормативность, самодостаточность), когнитивной (прогностичность) и регулятивной (самоконтроль) сфер личности.
Теоретическая модель склонности экстремальных добровольцев к сохранению служебной тайны была положена в основу создания соответствующей диагностической методики, а содержание предикторов нашло отражение в семантическом наполнении стимульного материала.
Измерительный инструмент мощностью утверждений 76 пунктов, включая пять парциальных и одну контрольную шкалу, предусматривает три варианта ответов (два категоричных и один нейтральный). Перечень первых 38 утверждений формы «W» включен в настоящую статью.
1. Степень секретности информации зависит от ситуации и личного восприятия.
2. Каждому добровольцу следует гордиться перспективной военной техникой, поступающей на вооружение, обсуждая её с родными или близкими.
3. Вопрос о возможности размещения фото и видеоматериалов со службы в социальных сетях должен решать сам военнослужащий.
4. Считаю, что наличие двойного гражданства может являться ограничением по службе.
5. Обсуждая с родными или близкими актуальные проблемы военной службы, военнослужащий проходит своеобразную психологическую реабилитацию.
6. Эвакуируя граждан из зоны вооруженного конфликта, военнослужащий может сориентировать их с помощью имеющейся у него военной топографической карты.
7. Поскольку Армия России – это часть общества, то у неё не должно быть секретов от граждан страны.
8. Если ожидается важный звонок по службе, то смартфон военнослужащего обязательно должен быть при нём.
9. Служебный документ, не имеющий грифа секретности, при необходимости может тиражироваться любым способом.
10. В условиях ограничения времени секретные документы могут быть отправлены по электронной почте с установлением пароля доступа ним.
11. По моему мнению, всегда следует соблюдать нормативные правовые акты и документы, в том числе те, которые существенно затрудняют выполнение военнослужащим поставленных перед ним задач.
12. Данные о военно-политической обстановке и морально-психологическом состоянии личного состава должны охраняться также, как и сведения о защищенности режимных или особо важных объектов.
13. В экстремальных условиях военнослужащий может успешно решать многие профессиональные задачи без «доступа в Интернет».
14. Не вижу ничего предосудительного, если при отсутствии соответствующей формы допуска к секретным сведениям, доброволец ознакомится с содержанием документа с грифом «Для служебного пользования».
15. Смарт приборы и техника бытового назначения (телевизоры, стиральные машины, смарт-часы и т.п.) представляют угрозу безопасности для воинского подразделения в части определения третьими лицами его дислокации.
16. Считаю, что ключ от служебного сейфа должен храниться в определенном (условном) месте, чтобы при необходимости коллеги могли им воспользоваться.
17. Чтобы не забыть или не потерять служебный документ, его допустимо хранить в отсканированном виде.
18. В жизни можно достигнуть гораздо большего, если руководствоваться народным изречением «Если хочется, но нельзя, то можно».
19. Считаю, что участники добровольческих формирований могут пользоваться различными техническими средствами с расширенными мультимедийными возможностями при условии запрета на размещение в социальных сетях соответствующих фото- или видеоматериалов.
20. Чтобы окружающие (в том числе родные или близкие) гордились добровольцем, ему следует размещать свои фотографии в военной форме в различных социальных сетях.
21. Нельзя осуждать военнослужащих, использующих смартфоны для оперативного решения служебных задач.
22. Контролировать сроки работы с секретными документами нет необходимости, главное – обеспечить их сохранность.
23. К проступкам военнослужащих в сфере правоотношений оборота служебной информации следует относиться нейтрально, если это не затрагивает интересы сослуживцев.
24. Для популяризации военной службы каждый военнослужащий должен быть блогером.
25. Считаю, что военнослужащему допустимо иметь личный ноутбук для общения или получения информации в Интернете в свободное время.
26. Ни при каких обстоятельствах для меня неприемлема изоляция от семьи или друзей.
27. Восприятие информации в экстремальной ситуации – это оценка реальности, а не выбор конкретной личности.
28. Информационный голод страшнее угрозы жизни или здоровью.
29. Экстремальному добровольцу необходимо постоянно получать одобрение и поддержку со стороны сослуживцев.
30. Считаю, что гораздо важнее правильно оценить достоверность информации о месте дислокации «наших» воинских подразделений, чем принять решение об её сохранности.
31. Экстремальный доброволец может использовать свободное время по своему усмотрению, в том числе общаясь в социальных сетях.
32. Наличие у военнослужащего во время несения службы личного USB-накопителя является более тяжелым дисциплинарным проступком, чем его склонность общаться на тему современного вооружения армий зарубежных государств.
33. Все ксерокопии, снятые с документов, имеющих гриф секретности, должны быть зарегистрированы в установленном порядке.
34. В условиях угрозы жизни и здоровью военнослужащий должен нести ответственность за свои действия лишь отчасти.
35. Хотелось бы, чтобы сослуживцы воспринимали меня скорее как коллегу, объективно воспринимающего информационные угрозы, нежели человека, хорошо владеющего собой.
36. Использование старшим офицерским составом смартфонов на службе такой же дисциплинарный проступок, как и работа с этими устройствами рядовыми военнослужащими.
37. Нет ничего предосудительного, если, находясь в отпуске, военнослужащий поделится с родными или близкими своими впечатлениями об участии в тактических учениях.
38. Для выживания в экстремальных условиях каждый доброволец должен показать свою значимость и полезность для окружающих.
При обработке данных психологического обследования сырой балл для каждого предиктора модели, рассчитанный как число совпадений с диагностическим ключом (табл. 1), переводится в 9-балльную шкалу. При кодировании ответов любое совпадение с «прямым» диагностическим ключом оценивается в 2 балла, «обратным» – 0 баллов, нейтральный ответ – 1 балл. Для интерпретации первичные баллы переводятся в шкалу станайн.
Таблица 1 – Диагностические ключи и нормативные данные к шкалам опросника
|
Наименование шкалы |
«Прямой» ключ |
«Обратный» ключ |
Среднее значение |
Стандартное отклонение |
|
Самодостаточность |
64, 74 |
26, 27, 28, 29, 34, 38, 43, 50, 55, 58 |
11,750 |
3,059 |
|
Нормативность |
4, 11, 12, 13, 32, 33, 36, 41 |
1, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 42, 62, 66, 69, 73, 76 |
30,324 |
6,058 |
|
Скрытность |
12, 40, 45, 60 |
3, 5, 7, 14, 20, 30, 31, 37, 53, 57, 59, 65, 68, 70 |
21,755 |
5,128 |
|
Прогностичность |
1, 15, 27, 30, 35 |
2, 6, 19, 20, 21, 24, 25, 31, 37, 39, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 63, 67, 71, 76 |
27,850 |
6,825 |
|
Самоконтроль |
41, 49 |
8, 17, 18, 23, 35, 59, 65, 66, 67 |
14,267 |
3,097 |
|
Достоверность |
36, 47, 54, 66, 72, 75 |
24, 48, 61 |
13,851 |
2,159 |
|
Склонность к сохранению служебной тайны в экстремальных условиях |
6723,250 |
12227,435 |
||
Интегральный показатель «Склонность к сохранению служебной тайны в экстремальных условиях» подсчитывается как произведение станайн-баллов пяти парциальных диагностических индикаторов с последующим переводом согласно нормативным данным в станайн шкалу. Все шкалы методики (парциальные индикаторы и интегральный показатель) являются интерпретационными.
Для оценки дифференциальных возможностей измерительных шкал опросника проведено сравнение соответствующих показателей по U-критерию Манна-Уитни (табл. 2) в контрастных группах (экстремальные добровольцы и студенты). Мы предположили, что априори студенты менее склонны к защите служебной информации, чем добровольцы, выполняющие задачи в экстремальных условиях. Методика на уровне трёх частных предикторов «Нормативность» (U=206, р≤0,01), «Прогностичность» (U=210, р≤0,01) и «Самоконтроль» (U=254, р≤0,05) позволяет однозначно разделить группы 1 и 2 по интегральному критерию «Склонность к сохранению служебной тайны в экстремальных условиях» (U=195, р≤0,01). Следует отметить, что в ходе тестирования студенты напрямую указывали на неготовность сохранять служебную тайну или участвовать в экстремальном добровольчестве, что было верифицировано на диагностическом уровне. Подобное можно рассматривать как объективный критерий качества разработанного диагностического инструментария.
Таблица 2 – Дифференциальные возможности измерительных шкал опросника
|
Наименование шкалы |
Экстремальные добровольцы (группа 1) |
Студенты (группа 2) |
U |
||
|
Среднее значение |
Стандартное отклонение |
Среднее значение |
Стандартное отклонение |
U |
|
|
Самодостаточность |
12,464 |
3,118 |
11,007 |
3,671 |
280 |
|
Нормативность |
31,618 |
5,377 |
28,230 |
6,502 |
206** |
|
Скрытность |
21,967 |
5,623 |
21,449 |
5,394 |
317 |
|
Прогностичность |
29,331 |
6,004 |
26,101 |
5,682 |
210** |
|
Самоконтроль |
15,686 |
3,145 |
13,635 |
2,365 |
254* |
|
Склонность к сохранению служебной тайны в экстремальных условиях |
7124,317 |
10860,990 |
6405,360 |
9861,957 |
195** |
Примечание: в таблицах 2 и 3 введены следующие уловные обозначения – «*» - р≤0,05; «**» - р≤0,01.
Несмотря на то, что у экстремальных добровольцев отмечены несколько повышенные средние значения по шкалам «Самодостаточность» и «Скрытность» (в сравнении с обучающимися), статически значимых различий по ним в группах не установлено. Можно предположить, что и студенты и добровольцы предстают как состоявшие личности, в равной степени ориентированные на скрытность-открытость в общении.
Проведена оценка критериальной валидности шкал опросника. Внешним критерием выступили экспертные оценки, корреспондирующие с названиями предикторов. Для интегральной шкалы введён экспертный показатель «Уровень защиты служебной информации» (табл. 3). При обработке данных использовался коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена.
Таблица 3 – Сведения о корреляции тестовых и экспертных оценок
|
Наименование шкалы |
Коэффициент корреляции |
|
Самодостаточность |
0,351* |
|
Нормативность |
0,567** |
|
Скрытность |
0,312* |
|
Прогностичность |
0,476** |
|
Самоконтроль |
0,688** |
|
Склонность к сохранению служебной тайны в экстремальных условиях |
0,850** |
Все индикаторы опросника показали статистически значимую взаимосвязь с одноименными экспертными оценками (р≤0,01 и р≤0,05). Достаточно высокие значения коэффициентов корреляции можно объяснить, с одной стороны, высокой валидностью измерительных шкал, с другой, простотой, конкретностью и понятностью для экспертов соответствующих оцененных параметров, точностью соответствующей экспертизы.
Таким образом, верификация диагностической методики в форме оценки дифференциальных способностей и критериальной валидности подтверждает возможности опросника как измерительного инструментария по изучению личности экстремальных добровольцев. В настоящее время продолжается комплексное психометрическое исследование опросника, верификация и апробация методики применительно к экстремально-соучаствующей деятельности.
Выводы. Реалиями бытийности современного вооруженного конфликта является то, что поток служебной информации в экстремальных условиях нарастает в геометрической прогрессии. Помимо общепрофилактических мероприятий, а также организационно-технических и нормативно-правовых мер защиты служебной тайны в зоне ведения боевых действий, а особая роль отводится формированию готовности экстремальных добровольцев к особому порядку обращения информации, которая может нанести вред как конкретному индивиду или его сослуживцам, так и интересам государства. Многообразие подходов к психологическим аспектам обеспечения конфиденциальности в условиях проведения специальной военной операции актуализировало обращение к индивидуально-психологическим особенностям военнослужащих и экстремальных добровольцев. Научное изыскание позволило обосновать пятивекторную прикладную диагностически значимую модель оценки склонности экстремальных добровольцев к сохранению служебной информации. Предикторами и оценочными шкалами являются три характеристики нравственно-ценностной сферы (самодостаточность; нормативность поведения; скрытность), по одной когнитивной (прогностичность) и волевой (самоконтроль) сфер. Верификация теоретической модели позволила создать методику оценки склонности к сохранению служебной информации, определить её некоторые психометрические характеристики (нормативные данные, критериальная валидность, дифференциальные возможности). Создание подобного диагностического инструментария позволяет совершенствовать психологическую работу с экстремальными добровольцами и представителями силовых структур.
1. Акопян Н.А. Опыт информационно-психологических войн в современных электронных СМИ // Медиасреда. 2020. № 2. С. 126-129.
2. Артамонова В.В. Модели волонтёрской деятельности в современном обществе // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 5 (85). С. 57-61.
3. Бартош А.А. Информационно-психологическая война как инструмент гибридной войны // Вестник Университета мировых цивилизаций. 2024. Т. 15. № 3 (44). С. 6-11. DOI:https://doi.org/10.24412/2587-6236-2024-344-6-11.
4. Басов Е.Н., Питкин В.А., Хворостова Т.Р. Особенности личности волонтера // Становление психологии и педагогики как междисциплинарных наук. 2018. С. 22-26.
5. Васильев В.А., Васильева С.А. Классификация сведений, составляющих профессиональную тайну // Научный вестник Крыма. 2020. № 1 (24). С. 11.
6. Логвинова М.И., Богачева Т.И. Социально-психологические характеристики личности членов различных добровольческих групп // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2024. № 1 (69). С. 328-335.
7. Лызь Н.А., Веселов Г.Е., Лызь А.Е. Информационно-психологическая безопасность в системах безопасности человека и информационной безопасности государства // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2014. № 8 (157). С. 58-66.
8. Мадоян М.А., Мадоян С.М. Информационная гигиена в интернет-пространстве как фактор стрессоустойчивости будущих сотрудников пенитенциарной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2023. № 2. С. 67-72. DOI:https://doi.org/10.51522/2307-0382-2023-249-2-67-72.
9. Махов С.Ю., Еремин Р.В. Информационно-психологическая безопасность личности // Наука-2020. 2020. № 1 (37). С. 26-30.
10. Небренчин С.М. Актуальные вопросы укрепления информационной безопасности России в связи со специальной военной операцией на Украине // Россия: тенденции и перспективы развития. 2023. № 18-1. С. 211-216.
11. Петров В.Е. Психология экстремального волонтёрства: субъектная модель и диагностика: Монография. М.: Издательство «Спутник +», 2024. 96 с.
12. Полякова О.О., Ведяшкина С.А. К проблеме психологического исследования волонтёрской деятельности // E-Scio. 2017. № 6 (9). С. 168-176.
13. Скуратовский Д.К., Бадамшин З.А. Геолокация как одна из совмещенных функций смартфона и ее влияние на конфиденциальность служебной деятельности военнослужащих // Экономика и социум. 2018. № 5 (48). С. 1089-1093.
14. Стегний В.Н., Никонов М.В. Мотивация волонтёрской деятельности // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2018. № 1. С. 146-156.
15. Торотоева А.М. Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как вид добровольческой деятельности: основные черты, трудности и возможности развития (обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология: Реферативный журнал. 2022. № 4. С. 89-108.
16. Факторная психологическая детерминация склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны / М.И. Марьин, В.Е. Петров, А.В. Кокурин [и др.] // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2023. Т. 28. № 4 (95). С. 411-415. DOI:https://doi.org/10.24412/1999-6241-2023-495-411-415.
17. Фролова Н.А. Психологические аспекты управления деятельностью волонтёров-спасателей в экстремальных и чрезвычайных ситуациях // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2021. Т. 10. № 1 (53). С. 195-198. DOI:https://doi.org/10.46548/21vek-2021-1053-0036.
18. Холодная Е.В. О сущностных признаках служебной тайны // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 2 (127). С. 125-129.
19. Щеглов Е.Н. Организационно-правовые проблемы реализации защиты отдельных сегментов конфиденциальной информации в деятельности органов внутренних дел // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 7. С. 157-161.
20. Akhtar H. Predicting Participation in Volunteering Based on Personality Characteristics // Journal of Educational, Health and Community Psychology. 2019. № 8. pр. 32-44.
21. Beyond risk-taking: effects of psychological safety on cooperative goal interdependence and prosocial behavior / K. Leung [et al.] // Group & Organization Management. 2015. Vol. 40. № 1. рр. 88-115.