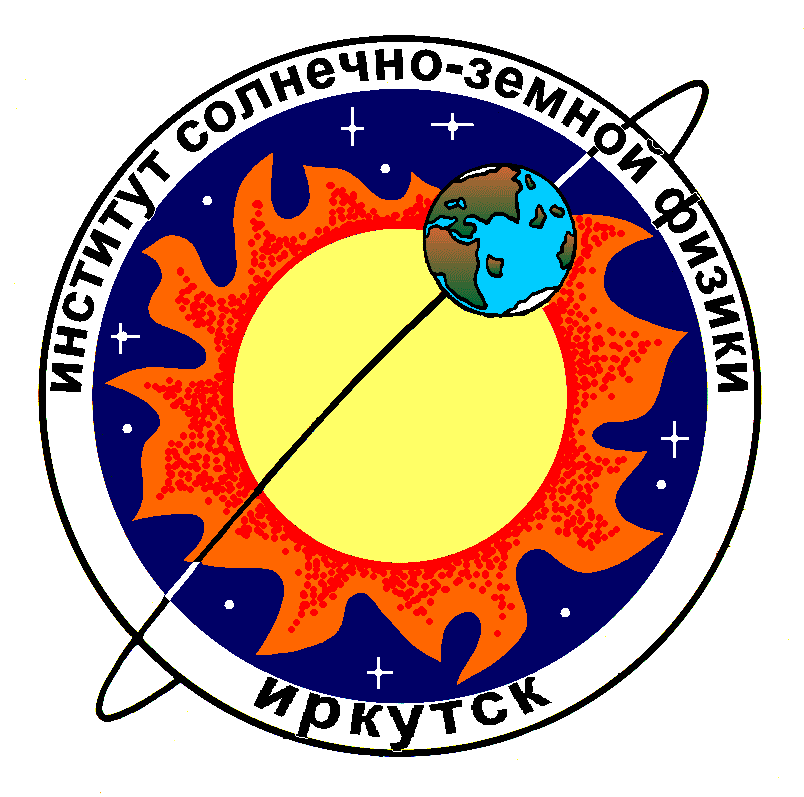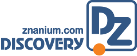Россия
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Анализ рассказа «Три года» направлен на то, чтобы подобрать идеологический ключ к Чехову. По мнению авторов, он заключается в следующем тезисе: верю в добро – но не верю в человека, хотя изо всех сил хочу верить. Подобное кредо и делает героев А.П. Чехова по-своему «лишними».
А.П. Чехов, рассказ, бессознательное, любовь, счастье, психика, сознание, личность.
Рассказ «Три года» начинается с «фирменной» чеховской ноты и знакомого приема: «Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна» [1]. Столько символов и знаков безысходности в одной неэнергичной фразе, сопровождаемых унылым ассонансом. Еще ничего не случилось, но мы уже настроены на самое худшее. Это ж надо, чтобы утро было таким мрачным. Неверный свет огней не вводит нас в заблуждение, мы ему «не верим».
И вот в такое утро некто Лаптев Алексей Федорович, сын купца, получивший университетское образование, ждет со всенощной Юлию Сергеевну, в которую он глупо, как ему кажется, и безответно влюблен. Конечно же, он был просвещен, что «страстная любовь есть психоз» «и все в таком роде», но если бы его сейчас спросили, что такое любовь, «то он не нашелся бы что ответить». Любовь была, однако она не приносила радости.
«Прошло больше года». Юлия Сергеевна была уже женой Алексея Федоровича, но по-прежнему не любила его. «Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет, но это не любовь». «Так, привычка, должно быть». Между тем чувство Лаптева к жене «было уже совсем не то, что раньше». Проще говоря, любил он ее гораздо меньше.
Прошло три года. Юлия Сергеевна из «тонкой, хрупкой, бледнолицей девушки» превратившаяся в «зрелую, красивую сильную женщину» уже любит своего мужа по-настоящему и объясняется ему в любви, как когда-то, три года тому назад, объяснялся ей жалкий Лаптев. «Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему завтракать». Лаптеву было скучно.
Перед нами вновь знаменитые чеховские метаморфозы, которые ставят в тупик мыслящую личность, диалектические перевертыши. Счастье рядом – но отчего-то ускользает, словно жар-птица.
В конце рассказа Лаптев, обладатель миллионов, прибыльного, перспективного дела и красавицы жены – «вышел на середину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь…» Знакомо, не правда ли?
«Общая идея» и должна перекинуть мостик от этой обывательской, непоэтической, рутинной жизни к жизни «прекрасной, завидной», «чудной», «даже святой». И реальная жизнь в лучшем случае становится ностальгией по чудо-жизни. Под эту «общую идею» рассказов Чехова выстроена вся поэтика: лишние, потому как тонко рефлектирующие, герои, заурядные, бытовые конфликты (которые и на конфликты-то, понимаемые как столкновение интересов, вовсе не похожи); завораживающий синтаксис, скрытый, «неторопливый» ритм, «поддержанные» неброской звукописью, призванные источать затаенную, «стыдливую» поэзию; отсутствие открытого психологизма, поскольку акцент сделан на «диалектике идей»; виртуозное владение деталью, которая информационно предельно нагружена (двойные, тройные функции – обычное дело). Наконец, сам рассказ (малый жанр) как жанровый адекват или жанровая реакция на отсутствие общей идеи – вполне естествен. Общая идея числится по ведомству романа. Ведь роман как таковой вырастает из «общей идеи», скрепляется ею (вопрос, касающийся объективной истинности этой генеральной, сквозной установки, – это уже особый вопрос), ею кормится, живет и одухотворяется. Роман есть многоплановое разворачивание идеи (потому и многоплановое, что идея общая, многоуровневая, «матрешечная» по структуре). Чехову же нечего разворачивать. Или, если угодно, разворачивать отсутствие идеи – малоконструктивная романная возможность. Космос Чехова мозаичен по природе. Он в бесконечном количестве вариантов демонстрирует ложь идеологических «зацепок» и готовность принять универсальную идею, которую, увы, не находит. Осколки тяготеют к моноцентру, но не более того. Они не складываются в определенную идеологию или «направление», ибо яркая идеология всегда примитивна, мало насыщена противоречиями (см.: [2; 7; 8; 9; 12; 13; 14]). Строго говоря, это позиция, близкая к скептицизму, сплавленному со стоицизмом. Негромкой силой духа веет от рассказов Чехова. Никакого богоборчества, мессианства, стального, героического пафоса. Какая-то абсолютная честность, не позволяющая ничего идеализировать, во всем видеть оборотную сторону и вместе с тем не унижаться до духовного хамства, до отрицания гуманистически ценного, несмотря на то, что гуманность может существовать исключительно в форме идеологических «зацепок».
Вот и получается: верю в добро – изо всех сил хочу верить, но не верю в человека. Это и есть идеологический ключ к Чехову. Это кредо и делает героев Чехова «лишними».
Позиция очень реалистическая, нелицемерная, не фанатическая, снискала русскому писателю всемирный авторитет. Позиция эта, повторим, выражена с немалым изяществом, без жалкого надрыва, без бьющего на жалость скулежа. Трагизм, переносимый с достоинством, – это уже, отчасти, преодоленный трагизм. Исключительное же пристрастие к духовной стороне жизни, к духовному потенциалу личности делает Чехова мыслителем, не уступающим лучшим русским писателям: Пушкину, Тургеневу, Гончарову, Л. Толстому, Достоевскому.
Вернемся к Лаптеву, чтобы уточнить, какая разновидность лишних людей интересует писателя (и вообще, и в данном случае в частности). Ведь «тип лишнего» – это абстракция, тип складывается из конкретных модификаций.
Обратимся к ключевому диалогу Лаптева с Ярцевым «– Вы любите жизнь, Гаврилыч?» – обращается Лаптев к Ярцеву. «– Да, люблю». «– А я вот никак не могу понять себя в этом отношении. У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, неуверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Иной говорит глупости или плутует, и так жизнерадостно, я же, случается, сознательно делаю добро и испытываю при этом только беспокойство или полнейшее равнодушие. Все это, Гаврилыч, объясняю я тем, что я раб, внук крепостного. Прежде чем мы, чумазые, выбьемся на настоящую дорогу, много нашего брата ляжет костьми!».
Какие тонкие наблюдения, какая глубокая рефлексия! Это ведь целая философия человека. Даже одно подобное замечание придает рассказу колоссальный интеллектуальный вес. А у Чехова – россыпи роскошных, небанальных открытий. «Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное, мыслить как-нибудь особенно, не по-земному». Если просто мыслить, по-земному, то получается вариант Лаптева. Он обыденно просто излагает Юлии сокровенное: «У меня такое чувство, как будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для нас серая полужизнь. (…) Как бы то ни было, приходится проститься с мыслями о счастье. (…) Его нет. Его не было никогда у меня, и, должно быть, его не бывает вовсе».
А вот как Алексей Федорович излагает свои мысли брату: «Посмотри на меня… Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городовых, жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!».
У всех рефлектирующих героев Чехова в будущем «серая полужизнь», а в прошлом – иллюзии зацепок. Странно: если не хватает нерассуждающей витальной радости, инстинкта жизни, психического, бессознательного порыва, – то все самые умные рассуждения героев оборачиваются глупым занудством. Нытики, пессимисты и прочие им подобные – это не те, кто рассуждает, а те, кто рассуждает там, где надо плакать или смеяться. Герои Чехова как-то странно «не замечают слона», проходят мимо этой жизнеутверждающей возможности.
Это понял Евгений Онегин. «Война и мир» вырастает из «идеи жизни» (из принципиального преобладания начала иррационального над рационально-аналитическим). Гармония духа держится на двух опорах: взаимном учете интересов психики и сознании. Чехова не интересует психика и психология как бессодержательная, глупая, растительная жизнь, где нет пищи для ума. И напрасно. Нет самоценной психической жизни – ум начинает самоедствовать и тосковать по «неземному» образу мыслей, по счастью.
Вот и не хватает какого-то «чуть-чуть» миллионеру Лаптеву, чтобы красиво, умно, с толком распорядиться своей жизнью. «Лаптев (…) думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет… И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем?
И думал:
«Поживем – увидим».
Рассказ «Три года» был написан в
1. Текст цитируется по изданию: Чехов А.П. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. - М., «Правда», 1970. (курсив мой - А.А.).
2. Андреев А.Н. Информационная структура личности как категория педагогики//Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. - 2018. - Т. 7. - № 3. - С. 15-19.
3. Гладков И.С., Зорина И.Ю. Генезис российской промышленности//Региональная экономика: теория и практика. - 2008. - № 34. - С. 81-86.
4. Гладков И.С., Зорина И.Ю. Развитие российской промышленности в XIX - начале XX веков//Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - № 5. - С. 72-76.
5. Гладков И.С., Пилоян М.Г. Граф Е.Ф.Канкрин: воспоминание о будущем//Международная жизнь. - 2012. - № 13. - С. 148-157.
6. Гладков И.С., Пилоян М.Г. История мировой экономики: Научное издание/2-е издание. - М.: ИЕ РАН, Проспект. 2016. - 384 с.
7. Кащенко Т.Л. Комфорт как национальная идея//Власть. - 2013. - № 3. - С. 097-100.
8. Кащенко Т.Л. О ценностях молодежи с позиции реализма//В сборнике: Молодежь в современном обществе Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции. Под ред. С.А. Бурилкиной, Б.Т. Ищановой, О.Л. Потрикеевой, Е.Н. Ращикулиной, Г.А. Супруненко. - 2015. - С. 123-128.
9. Кащенко Т.Л., Положенцева И.В., Юлина Г.Н. Язык славян - язык взаимопонимания и любви// В сборнике: Консолидирующая роль русского языка как основа государственности России Сборник статей в рамках проведения мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и распространение русского языка. Москва. - 2017. - С. 15-23.
10. Пилоян М.Г. Домашнее образование дворянок как важнейшая составляющая женского образования в России: исторические особенности//Журнал исторических исследований. -2018. - Т. 3. - № 3. - С. 42-48.
11. Пилоян М.Г. Зарождение женского образования в Российской империи//Журнал педагогических исследований. - 2018. - Т. 3. - № 3. - С. 1-7.
12. Положенцева И., Кащенко Т. Феномен исторической памяти и актуализация личной исторической памяти студентов//Власть. - 2014. - № 12. - С. 42-47.
13. Шатило И.С., Бухарина А.В., Кащенко Т.Л. Культурология. Учебное пособие. Москва, Палеотип. 2012. - 136 с.
14. Шатило И.С., Кащенко Т.Л. Гуманитарная культура как феномен духовности//Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. - 2013. - Т. 2. - № 3 (4). - С. 10-19.