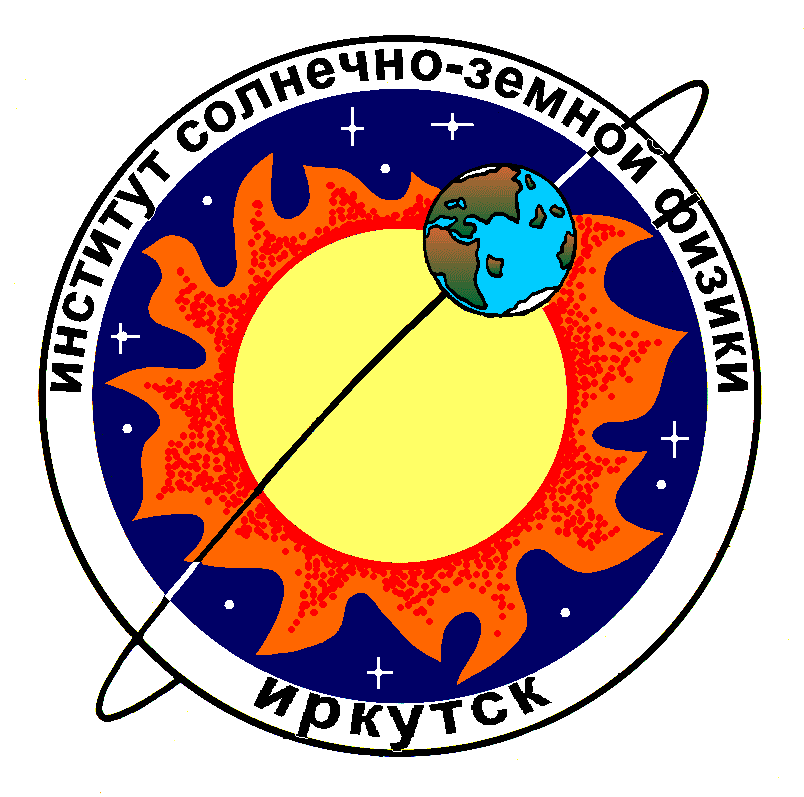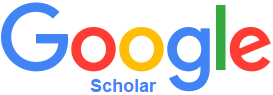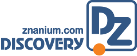Сургут, Тюменская область, Россия
В статье предпринимается попытка объяснить проблемы, с которыми сталкивается современная российская политика памяти в связи с необходимостью давать отпор фальсификациям истории Второй мировой войны. Обращается внимание на причины распространения в общественном сознании мнения о равной ответственности Германии и СССР в развязывании войны. Показано, что причиной трудностей российской символической политики является отсутствие связной теоретической конструкции, позволяющей дать логически непротиворечивую интерпретацию событиям политической истории первой половины ХХ в. Указывается на некритическое принятие отечественной политической наукой теории тоталитаризма и недостаточное внимание к закономерностям формирования фашистских режимов в Западной Европе. В качестве метода автор применил историко-сравнительный подход, сопоставляя особенности использования различных концептуальных оснований трактовки событий начала Второй мировой войны в зависимости от интересов и целей политических акторов. Сделан вывод, что включение в мировую экономическую систему на условиях Запада неизбежно влечет за собой потерю суверенитета и в научно-теоретической сфере.
Великая Отечественная война, Вторая мировая война, фашизм, тоталитаризм, символическая политика, политика памяти, информационная война
Постановка проблемы
В сентябре 2019 г. Европарламент по инициативе польских делегатов принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», возлагающую равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Германию и Советский Союз. Проблема не в принятии этой, мягко говоря, спорной резолюции, а в том, что она, согласно социологическим опросам, лишь отражает господствующее по этому поводу общественное мнение населения западных стран[i]. Что, в свою очередь, свидетельствует о проигрыше России в информационной войне по принципиальному пункту политической картины современного мира.
В данном случае под информационной войной понимается целенаправленная политика по контролю за сознанием людей, использующая «производство и распространение по самым разным каналам разрушительной (компрометирующей, дестабилизирующей) для противника информации» [15, с. 5]. Что касается трактовки символической политики, то мы опираемся на подход, предложенный в свое время О.Ю. Малиновой. Символическая политика в данном случае рассматривается не как специфическая технология политической коммуникации, направленная на внушение смыслов, заменяющих реальность, а в более широком контексте, где она выступает не противоположностью, а специфическим аспектом «реальной» политики, направленным на производство определенных способов интерпретации этой реальности в качестве доминирующих. Особое значение при этом приобретает конструирование макрополитической идентичности. Ее инструментами являются официальный язык, школьные программы, требования, связанные с приобретением гражданства, национальные символы и праздники, переименование топографических объектов и т.п. [16, с. 6-8].
В числе конституирующих макрополитическую идентичность символов, особую роль играют отражаемые в праздновании Дня Победы смыслы той выдающейся роли, которую сыграла страна в победе над фашизмом. И любое сомнение в истинности этих смыслов наносит для макрополитической идентичности разрушительный характер. Именно на это направлена сегодня символическая политика Запада по поводу истории Второй мировой войны, и именно в этом принципиальном пункте российская символическая политика все чаще проигрывает. И это – несмотря на значительные усилия с использованием телевизионных каналов, социальных сетей, научных конференций, народной дипломатии и поддержки соотечественников за рубежом и пр.
Можно высказать предположение, что проблемы в информационной политике связаны отнюдь не с недостаточностью фактологического материала, а заключаются в слабости теоретических обобщений, выводов, напрямую относящихся к проблематике политической науки. В данной статье предпринимается попытка доказать эту гипотезу и объяснить причины трудностей, возникающих в ходе подобных теоретических интерпретаций.
Методологическую основу исследования составляет историко-сравнительный подход, позволяющий сопоставить особенности использования различных концептуальных оснований трактовки событий начала Второй мировой войны [18; 19] в зависимости от интересов и целей политических акторов, а также теории политического конструктивизма, концепции макрополитической идентичности и символической политики.
Подходы к решению проблемы в научной литературе
Возникшая проблема тем более неожиданна, что на протяжении последнего десятилетия российскими учеными, в первую очередь историками, сделано немало, как с точки зрения публикации новых исторических фактов по истории Великой Отечественной войны, так и для развенчания псевдонаучных мифов о войне [4; 23; 27]. Вопросам идеологической борьбы вокруг событий Великой Отечественной войны достаточно много внимания уделялось и в советское время. Фундаментальным трудом в этом отношении являются соответствующие разделы, вышедшие еще в тот период двенадцатитомного издания «История Второй мировой войны 1939-1945». Авторы этой работы весьма критически расценивали интерпретации истории причин войны политически ангажированными западными исследователями [13, c. 414-429]. Современные российские исследователи также не раз посвящали свои работы разоблачению спекуляций на эту тему [17; 16]. Тем не менее причины актуализации проблемы в последние годы, а также существующие трудности в разоблачении этих фальсификаций нуждаются в объяснении.
Бесспорно, главной предпосылкой убежденности зарубежных граждан в вине СССР является их объективная заинтересованность в подобной трактовке. В свое время, П. Лазарсфельд показал, что на самом деле люди верят лишь тем сообщениям, которым им выгодно верить. Сегодняшнему среднестатистическому европейцу удобно считать СССР одним из виновников войны не только с моральной и правовой точки зрения, – для снятия груза исторической вины значительной части населения западных стран за поддержку фашизма в 1930−1940-е гг., но и по более прозаической – экономической причине. В кризисных условиях современного мира больше шансов на экономическое выживание и даже успех, имеют те, кто сумеет, с одной стороны достичь собственной консолидации, с другой, − найти жертву для предстоящего выкачивания ресурсов. Поэтому образ агрессивной России в качестве перманентной угрозы создает символическую платформу как для европейской интеграции и идентичности, так и для обоснования в перспективе права на присвоение ее ресурсов. Как пишет, отмечающий эту тенденцию Ю.С. Оганисьян, существует заметное сходство между политикой Запада в отношении СССР, а затем и России, с экспансионистскими планами, вынашиваемыми, в свое время, нацистской Германией [20, с. 22-24].
Однако эта готовность принять удобную политическую картину мира составляет лишь возможность, предпосылку формирования негативного образа Российской Федерации, которая не была бы реализована без успешной символической политики Запада, формирующей эту картину. В качестве одной из предпосылок этого успеха в информационной войне следует указать на формирование специфической релятивистской трактовки истины в качестве гносеологической основы западной символической политики.
Гносеологический релятивизм как основа софистических спекуляций
на тему войны
Мы живем сегодня в очень своеобразном мире, именуемом обычно постмодернистским. Тем не менее когда речь заходит о технологиях российской символической политики, вдруг выясняется, что они являют собой даже не прошлый, а ее позапрошлый век – век классических представлений об истине и способах ее формирования. В соответствии с этой парадигмой, упор в политике по сохранению памяти о войне сделан на презентацию в общественном пространстве исторических фактов. Так, президент В.В. Путин на встрече с ветеранами и представителями патриотических объединений в январе 2020 г. пообещал «заткнуть поганые рты» «правдивой фундаментальной информацией»[ii].
Бесспорно, правдивые исторические факты выступают необходимой частью формирования исторического сознания, однако частью далеко не единственной, а в сегодняшней ситуации, возможно, даже не главной.
Основой постмодернистской трактовки истины является гносеологический релятивизм, получивший даже специальное название – «постправда», для которого характерна девальвация фактологии и утверждение относительности истины. Впрочем, подобная гносеологическая парадигма отнюдь не нова. Она неизбежно возникает на этапе нисходящего общественного развития, отразившись, например, уже в V в. до н.э. в период кризиса полиса в философии софистов, взгляды которых Платон презрительно и емко охарактеризовал словами: «Истина их не интересует, для них главное – победа в споре». На нынешнем этапе аналогичной деградации социальной и культурной систем, изящно именуемом «постмодернизмом», основой исторической логики и методом обоснования истины также становятся релятивизм и софистика.
Примером подобной софистики (преднамеренного нарушения или абсолютизации законов и принципов формальной логики) является упомянутое решение Европарламента. В данном случае используется формальное совпадение даты начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. с вынужденным вводом частей Красной Армии в западные области, предпринятое с целью отодвинуть войска потенциального агрессора от своих границ, создать так называемое «боевое предполье». Эта дата, действительно традиционно считающаяся началом войны, на самом деле, довольно произвольно опирается на факт вступления в войну Франции и Англии. Но мировая война к этому моменту шла уже почти два года. Объективно, ее отсчет нужно вести с нападения Японии на Китай в 1937 г. Ведь если она закончилась в сентябре 1945 г. прекращением боевых действий против Японии, то логично, что с агрессии Японии она и берет свое начало, т.е. с июля 1937 г.
Однако принимается европоцентристский взгляд на мировую историю, началом войны объявляется 1 сентября 1939 г., хотя передел Европы идет уже полным ходом, что дает возможность софистически объявить Советский Союз нападающей стороной и участником раздела Польши.
Любопытно, что если брать за точку отсчета начала войны в Европе принцип раздела по соглашению с Германией территории другого государства, то по иронии истории таковым агрессором является именно Польша за год до того, как сама оказалась в роли подобной жертвы. В сентябре 1938 г. Польша, заручившись поддержкой Германии, как известно, заняла Тешинскую область, принадлежавшую Чехословакии. Причем, согласно современным исследованиям, «в германских планах разрешения чехословацкого вопроса Польша играет агрессивную роль … как фактический участник блока агрессоров… и открыто провоцирует обострение Тешинского вопроса» [9, с. 104]. Но почему-то не Польшу, а СССР объявляет пресловутая резолюция соучастником в развязывании войны.
Нынешние западные историки, описывая предвоенные события, вынуждены рассказывать о Мюнхенском договоре 1938 г. и, конечно, о советско-германском пакте 1939 г., но эпизод с оккупацией Польшей территории Чехословакии полностью игнорируют [5, с. 268-291], лишний раз подтверждая нехитрую заповедь постмодернистской методологии – если факты невыгодны для концепции, то от них необходимо отказаться.
Этот небольшой исторический экскурс иллюстрирует ту софистическую непринужденность, с которой обращаются с событиями прошлого современные политики, в данном случае – Европарламента.
Поэтому в настоящее время рассчитывать на то, что сегодня можно убедить кого-то фактами в качестве доказательства истины, чем пытается заниматься российская символическая политика, – это заведомо обречь ее на поражение. На первое место в этой политике выходят не факты, а их интерпретация, не объективность истины, а концептуальная убедительность.
«Теория тоталитаризма» в качестве концептуальной основы антироссийской трактовки истории Великой Отечественной войны
Значение концептуализации в нынешних технологиях пропаганды не просто возрастает, оно становится абсолютным, как в общественном сознании, так и в науке. Ведь, в конечном счете, хотя политическая теория и не тождественна идеологии, ее функция заключается лишь в том, чтобы «узаконить специфическую организацию различных интерпретаций политических концепций» [1, с. 92].
Причины сегодняшнего поражения России в войнах памяти лежат как раз в отсутствии концептуальной политической теории, объясняющей события первой половины ХХ в., в чем, безусловно, есть и доля ответственности отечественной политической науки. Так, говоря о проблемах формирования российской идентичности, В.В. Титов отмечает, что сегодня технологии ее формирования «характеризуются такими недостатками, как слабая институциональная организация, реактивный характер применения, когнитивная аморфность, внутренняя противоречивость символического поля» [26, с. 78].
Особенно эти лакуны заметны на фоне того, что западная политология подобное политическое и концептуальное основание для своей символической политики предоставила.
Называется эта концепция «теория тоталитаризма». Зародившись в 20-30-е гг. ХХ в. в либертарианской и анархистской литературе как критика диктаторских режимов Германии и Италии, эта теория обрела второе дыхание после войны в работе Х. Арендт «Истоки тоталитаризма» (1951). Доказательства сходства европейского фашизма и сталинского большевизма как тоталитарных режимов Х. Арендт видит в использовании одинаковых приемов политической пропаганды и манипулировании массовым сознанием: «Везде, где тоталитаризм обладает абсолютной властью, он заменяет пропаганду идеологической обработкой и использует насилие не столько для запугивания людей (это делается лишь на начальных стадиях, когда еще существует политическая оппозиция), сколько для постоянного воплощения своих идеологических доктрин и своей практикуемой лжи» [2, с. 451]. В качестве исторических предпосылок Х. Арендт рассматривала лишь социально-психологические и идеологические феномены, например расизм. Объективные предпосылки появления фашизма, вырастающего из социально-экономических противоречий империализма, авторами игнорировались.
В результате такой трактовки появление фашистских режимов, по сути, носит случайный характер, и зависит, главным образом, от политических и пропагандистских усилий партий и лидеров вождистского типа, вроде Гитлера и Сталина. Логично, что после смерти Сталина Х. Арендт заявила, что СССР перестал быть тоталитарной страной. Но эту «оговорку» быстро исправили К. Фридрих и З. Бжезинский в книге «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956), вновь поставив на одну доску фашизм и большевизм, как сущностно схожие политические режимы.
Начиная с этой работы, теория тоталитаризма из средства нормативной типологизации политических режимов превратилась в оружие идеологической борьбы. И сегодня она призвана решить две взаимосвязанные задачи. Во-первых, показать сходство тоталитарной сущности советского государства и фашистского. Во-вторых, доказать случайное появление фашизма в Европе, акцентировать внимание на его социально-психологических предпосылках и скрыть ее социально-экономические основы. В своей вступительной речи на Нюрнбергском трибунале американский обвинитель Джексон достаточно прозорливо заметил: «Я думаю, что если, организуя процесс, мы начнем входить в обсуждение вопроса о политических и экономических причинах этой войны, то он может причинить определенный вред как Европе, так и Америке» [22, с. 550].
В результате, игнорирование объективных предпосылок появления фашизма позволяет «не замечать» факта прихода к власти фашистских режимов и формирования в них массовой поддержки и «пятой колонны» в 1920−1940-х гг. ХХ в. [24, с. 784-790] не только в Германии или Италии, но и в большинстве стран Европы. Это, в свою очередь, скрывает подлинные причины войны, вытекающие из агрессивной сущности такого режима, софистически перекладывая вину за ее развязывание, например, на СССР.
А.А. Галкин, критически оценивая результаты исследований фашизма зарубежными авторами, справедливо обращал внимание на преувеличение ими социально-психологических и психических факторов при объяснении причин его появления: «В результате фашизм предстает перед читателем не как социальное явление, обусловленное реальными причинами, а как результат либо определенной формы массового заболевания (в тех случаях, когда речь идет о позиции и взглядах масс), либо заболевания правящей элиты (когда история рассматривается как история вождей и героев. Приход фашизма к власти объясняется несчастливым совпадением обстоятельств, качествами отдельных личностей или уже вовсе второстепенными причинами» [10, с.19].
Проблемы современной российской политики памяти
Эта подмена исследований социально-экономической сущности фашизма указанием на внешнее сходство социально-психологического облика тоталитарных режимов, позволяя зарубежной политической науке поставить на одну доску фашистскую Германию и Советский Союз, появилась сразу после войны, и имеет, таким образом, давнюю историю [13, с. 420]. Однако, вплоть до 1990-х гг. отечественная наука подвергала подобные инсинуации убедительной критике, подчеркивая, что «буржуазные историки видят источники, причины второй мировой войны не в империализме с его обостряющимися антагонистическими противоречиями, а в разного рода геополитических, психологических и биологических факторах, во второстепенных или случайных обстоятельствах» [13, с. 416]. Эта критика была тем более убедительной, что слабым местом теории тоталитаризма оставалась неспособность объяснить ни природу фашизма, ни одновременный приход этих режимов к власти, ни его массовую поддержку в европейских государствах.
На этом фоне советская общественная наука, опиравшаяся на теорию происхождения фашизма как закономерного результата развития капиталистической системы, была логически непротиворечивой и имела такое же преимущество, какое обычно имеет наука перед публицистикой. Возникновение европейского фашизма рассматривалось как следствие кризиса капитализма, когда страх перед возможностью использования демократических институтов для перехода к социализму приводит к ликвидации демократии и установлению диктатуры крупной буржуазии, опирающуюся на массовую базу в лице мелкой буржуазии и непролетарских слоев населения. Вытекающая из природы этого режима агрессивность, в конечном счете, становится главной причиной начала мировой войны. Такая концепция трактовки политических событий начала ХХ в. полностью исключала какое-либо сходство фашизма и коммунизма и, логично интерпретируя исторические факты, объясняла причины войны [3, с. 27-48].
Отказ от этой концепции произошел на рубеже 1980-х − 1990-е гг. после распада СССР. Поскольку посткоммунистическая Россия включалась в мировую капиталистическую систему, то новая идеологическая парадигма не могла признавать закономерность произрастания фашистских диктатур из европейской демократии в качестве предпосылки развязывания войны. Переход страны в мировую капиталистическую экономическую систему сделал неизбежным принятие и ее идеологической парадигмы, в том числе и теории тоталитаризма. Такая трактовка соответствовала и локальным интересам нового политического класса России: критика социализма легитимизировала его приход к власти и приватизацию государственной собственности.
Сегодня в российской публичной политике звучит много обвинений в отношении западных СМИ и западных политиков в неправомерном отождествлении Гитлера и Сталина, поскольку из этого вытекает равная вина в развязывании войны. Однако зачем обвинять в этом зарубежных идеологов, если на самом деле эту точку зрения давно и небезуспешно внедряют в науку и общественное сознание сами отечественные авторы? [14, с. 387-401]. Не случайно наиболее популярным политическим философом в среде российского политического истеблишмента последних десятилетий становится И.А. Ильин, рассматривавший большевистский режим как левый тоталитаризм, родственный по своей природе фашизму [12, с. 63]. Более того, эта концепция получила правовую поддержку в принятом в декабре 1989 г. Съездом народных депутатов СССР специальном постановлении «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении», фактически признавшем вину Советского Союза в развязывании войны.
Обязательным пунктом проблематики отечественной политологии, отраженной, в том числе в учебниках, является утверждение тоталитарной сути советского режима и ее типологического родства с фашистскими диктатурами [25, с. 121-123].
Стоит ли удивляться, что в современных российских школьных учебниках по отечественной истории мы можем обнаружить лишь сформулированную западной политической мыслью облегченную версию социально-психологического объяснения происхождения фашизма. Причем смысловой анализ тех разделов, которые посвящены описанию особенностей сталинского режима [11, с.185-186; 7, с. 148-162; 6, с. 130-134;] и текстов учебников по всеобщей истории, в которых рассказывается о приходе фашистов к власти в Европе [8, с. 66-73; 21, с. 73-79], показывает терминологическую тождественность и сходство коннотаций в изложении признаков этих режимов. При этом и в вузовских, и в школьных российских учебниках истории полностью игнорируются объективные предпосылки формирования репрессивного механизма в виде враждебного внешнего окружения и необходимости борьбы с коррупцией в условиях начавшейся индустриализации.
Решение локальной идеологической задачи, связанной с желанием иметь концептуальную основу для критики предшествующего советского периода, привело, таким образом, к отождествлению на парадигмальном уровне политического режима в Советской России с фашизмом, что имело далеко идущие мировоззренческие последствия. Ведь логическим продолжением этой теории тоталитаризма становится вывод о такой же агрессивности Советской России, как и фашистской Германии. «Встроить» в эту концепцию необходимые факты не составляет труда: в рамках софистической методологии главное, чтобы была концепция, а факты найдутся. В конечном счете, в общественном сознании усилиями собственной отечественной гуманитарной науки была создана мировоззренческая предпосылка для принятия утверждений об ответственности СССР за развязывание войны.
Аналогичным образом, в рамках этой парадигмы понимания истории Второй мировой войны легко девальвируются и утверждения об освобождении народов Европы Советской Армией от фашизма, поскольку, по определению, тоталитарный режим не может принести освобождения.
Слабостью российской политологии явилась неготовность сформулировать концептуальные подходы, представляющие альтернативную западным теориям точку зрения на события Второй мировой войны. Не случайно, в работах отечественных историков, посвященных этой войне, практически не встречаются концептуальные обоснования, опирающиеся на исследования политической науки. В то время как подобная «смычка» истории и политологии является обязательным условием работ западных авторов. Например, известный французский историк Н. Верт причины победы СССР над фашистской Германией объясняет исключительно тактическими ошибками Гитлера [5, с. 307], союзническими поставками по ленд-лизу и массовым применением труда заключенных в промышленном производстве [5, с. 312]. И эти выводы прямо вытекают из предложенной данным автором концепции тоталитарного репрессивного советского режима [5, с. 241-249], не предполагая никаких иных объяснений.
Помимо идеологической двусмысленности современной российской политической теории Второй мировой войны она страдает и дефицитом научности в силу слабого эвристического потенциала и очевидных логических лакун. Так, утверждается, что победа в Великой Отечественной войне произошла не благодаря системе социализма, т.е. мобилизационным возможностям экономики и морально-политическому единству граждан, возникшему на основе этой системы, а вопреки им, и исключительно – за счет патриотизма и самоотверженности народа. Однако в данном случае политическая история вообще мистифицируется, поскольку предлагается признать, что россияне обладают особыми моральными качествами, выделяющими их среди других народов, и одновременно отказать полякам, французам и прочим народам в способности к патриотизму и самопожертвованию, поскольку их страны проигрывали войны с фашистской Германией в течение считанных дней и недель.
Но еще более важным является то, что данная версия о том, что победа в Великой Отечественной войне одержана не благодаря социалистическому строю, а вопреки ему, уязвима с логической точки зрения. Даже поверхностное обращение к документам тех лет свидетельствует об обратном. «Только слепец может отрицать теперь, − писала в 1945 году американская буржуазная газета "Сатердей ивнинг пост", − что триумф Красной Армии явился триумфом советского социализма, советского планировании, советского строя» [13, с. 424].
Это свидетельство можно подкрепить наблюдениям за разительным отличием в поведении российских солдат на фронтах Первой мировой и Второй мировой войн. Отказ воевать и повальное бегство с фронта стали обычным делом в годы Первой мировой войны. Но прошло всего несколько лет, и эти же люди жертвовали жизнью в ходе Великой Отечественной войны. Об этих переменах в поведении русских солдат, осознанно защищающих Советскую власть, говорят многие документы тех лет, например, мемуары немецких генералов, отмечавших это коренное отличие в поведении русских солдат, по сравнению с Первой мировой войной.
Схожие трудности возникают и при попытках сформировать пантеон героев современной России. Если принять концепцию тоталитарного советского прошлого, то в него автоматически попадают борцы с большевизмом, как это уже произошло с фигурами Колчака, Маннергейма и пр. При этом совершенно необъяснимо, чем они отличаются, например, от проклинаемых С. Бендеры или генерала Власова. И те, и другие одинаково боролись и с коммунизмом, и с Советской Россией, в равной мере опираясь на иностранную помощь.
Выводы
Подводя итог, отметим, что проблемы современной российской политики памяти в связи с событиями начала Второй мировой войны, выразившиеся в формировании антироссийского мирового общественного мнения, имеют в качестве одной из причин отсутствие связной теоретической конструкции, позволившей бы представить логически непротиворечивую интерпретацию этим событиям. Это, в свою очередь, является следствием отказа от суверенной политической теории, в том числе от концепции закономерности формирования фашистских режимов в Западной Европе в предвоенные годы и некритического принятия теории тоталитаризма. Гипотетически можно предположить, что отказ от экономического суверенитета и включение в мировую экономическую систему на условиях Запада неизбежно влечет за собой отказ от суверенитета и в научно-теоретической сфере.
[i]Была ли Польша жертвой войны? Опрос в ведущих странах ЕС.URL: https://inosmi.ru/politic/20200123/246676628.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&dbr=1(дата обращения 24.02.2020).
[ii]Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю. РИА Новости. URL: https://ria.ru/20200118/1563581123.htmlhttps://naukaru.ru/ru/nauka/article/19592/view (дата обращения: 18.02.2020).
1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль. (ХХ-ХХI вв.): Политическая теория и международные отношения. − Москва: Аспект-Пресс», 2015. − 623 с.
2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю.А. Кимелева, А.Д Ковалева, Ю.Б. Мишкенене, Л. А. Седова Послесл. Ю.Н. Давыдова. Под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. − Москва: ЦентрКом, 1996. 672 с.
3. Бессонов Б.Н. Фашизм: идеология, политика. − Москва: Высш. шк., 1985. 279 с.
4. Великая война и Великая Победа народа. К 65-летию победы в Великой Отечественной войне: В 2 кн. − Москва: ИКЦ Академкнига, 2010. Кн. 1: 480 с.
5. Верт Н. История советского государства. 1900-1991: Пер. с фр. 2-е изд. − Москва: Прогресс-Академия, 1995. 544 с.
6. Волобуев О.В. История. Россия и мир. − Москва: Дрофа, 2013. 351 с.
7. Волобуев О.В. История. Россия и мир. − Москва: Мнемозина, 2009. 335 с.
8. Волобуев О.В. История: Всеобщая история. − Москва: Дрофа., 2014. 223 с.
9. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941. − Москва: Индрик, 1999. 528 с.
10. Галкин А.А. Социология неофашизма. − Москва: Наука, 1971.198 с.
11. Загладин Н.В., Козленко С.И. История России. ХХ - начало ХХI века. − Москва: ООО "ТИД Русское слово-РС", 2007. 255 с.
12. Ильин И.А. О грядущей России: Избранные статьи. − Москва: Воениздат, 1993. 366 с.
13. История Второй мировой войны 1939-1945. В двенадцати томах. Т. 12. − Москва: Воениздат, 1982. 495 с.
14. Капустин М.К. Феноменология власти Психологические модели авторитаризма: Грозный - Сталин - Гитлер // Осмыслить культ Сталина. - Москва: Прогресс, 1989. 656 с.
15. Красовская О.В. Информационная война как коммуникативный феномен // Политическая лингвистика. − 2016. − № 4 (58). − С. 53−59.
16. Ливцов В.А., Пожидаев А.С. Фальсификации истории в контексте реализации государственной политики сохранения историко-культурного наследия // Вестник Поволжского института управления. − 2017. − № 5. − C. 108−115.
17. Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // ПОЛИТЭКС. − 2010. − Т. 6. − № 1. − С. 5−27.
18. Морозов Ю.В. Фальсификация итогов Второй мировой войны в рамках информационной борьбы против России // Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. − 2015. − № 25. − С. 50−63.
19. Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Н.А. Араловец, Н.Ф. Бугай, О.М. Вербицкая и др.; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.С. Сенявский. - М.: Гриф и К, 2010. 730 с.
20. Оганисьян Ю.С. Великая Отечественная - неоконченная война? // Полис. Политические исследования. − 2015. − № 3. − С. 9−26. DOI:https://doi.org/10.17976/jpps/2015.03.02.
21. Пленков О.Ю. Всеобщая история. − Москва: Вентана-Граф, 2011. 336 с.
22. Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. − Москва: Воениздат, 1969. 560 с.
23. "Расскажу вам о войне..." Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках и сознании школьников славянских стран. − Москва: РИСИ, 2012. 432 с.
24. Силантьев А. Пятая колонна: фашистские и антифашистские движения в мире (1941 г.). В кн. Лиддел Гарт Б.Г. Вторая мировая война / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. - Санкт-Петеобург: ООО «Издательство АСТ», 1999. 944 с.
25. Теория политики: Учебное пособие / Под. ред. Б.А. Исаева. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. 464 с.
26. Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной идентичности в современной России // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2019. − № 3 (25). − С. 78−83.
27. Фролов М.И. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в немецкой историографии. - Санкт-Петербург: Издательство Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, 2008. 132 с.